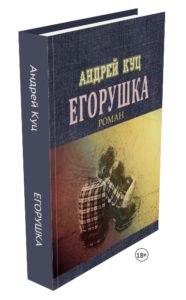Эта книга о том, как пятеро детей и подростков стойко сопротивляются влиянию отвратительного и опасного незнакомого мужика, в конечном итоге вступая с ним в схватку не на жизнь, а насмерть. Или, иначе говоря, в книге рассматривается вопрос, под воздействием чего ломается психика человека в его юные годы. Материал подан в увлекательной форме, через страшную историю, случившуюся с пятью детьми в глухой деревне.
Родился ты на свет божий, под солнышко высокое. Играешь ты в своё удовольствие в песочнице, мечтаешь, как станешь пожарником, чтобы смело бросаться в огонь, спасая людей, или о том, как станешь бизнесменом и будешь строить большие и красивые дома и магазины, приумножая своё богатство каждодневным честным трудом, принося людям пользу и радость.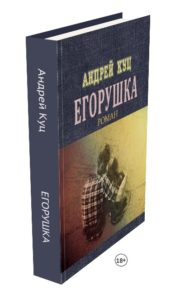 Но тут выскакивает из близких кустов некий мужик. Он топчет твои песочные постройки. Он поднимает тебя на воздух, беря за грудки как щеночка, и дышит в твоё лицо перегаром, и изрыгает он проклятия, сердясь на то, что ты такой молодой, что ты можешь радоваться цветочкам, что всё у тебя впереди — есть у тебя время, чтобы успеть выбрать, как
Но тут выскакивает из близких кустов некий мужик. Он топчет твои песочные постройки. Он поднимает тебя на воздух, беря за грудки как щеночка, и дышит в твоё лицо перегаром, и изрыгает он проклятия, сердясь на то, что ты такой молодой, что ты можешь радоваться цветочкам, что всё у тебя впереди — есть у тебя время, чтобы успеть выбрать, как

прожить жизнь. У него же давно всё осталось позади. И мечты не сбылись. И теперь гонится за ним свора злобных псов, мечтая кусать и терзать его. Ничего не изменить мужику. Остаётся только уносить ноги и скрываться от наказания за былые грехи. Надежда у него лишь на вот таких сопливых юнцов как ты, которых он очарует и обведёт вокруг пальца, суля подарки и великие блага, чтобы использовать для своей выгоды. Юнец очень скоро соблазнится и оступится, совершив, что-то плохое, а он набросится на него тут же, как коршун, пугая разоблачением и требуя скрыть свой проступок — замести следы. И юнец согласится — ты согласишься. И в тот же момент ты станешь таким же, как этот загнанный в угол мужик. Круг замкнётся. Всё повторится, только теперь уже ты будешь искать жертву, чтобы жить самому как можно дольше в счастье.
Здесь собраны лучшие, но далеко не все, что есть на просторах Интернета, варианты для удобного чтения и получения в личное пользование книги “Егорушка”.
Читалка №2 — на
Адаптивный формат отображения: меняются в ручном режиме – размер шрифта, плотность строк, количество страниц на экране. Будет на 40 руб. дороже, чем на ЛитРес или Ozon.ru.
Читалка №3 и лучшая! цена на печатную книгу в мягкой обложке — на
Там же можно купить и электронный вариант книги.
– Э, паря! – воскликнул Костя. – Я тебе ничего больше не скажу! Я так погляжу, ты – парень бравый: ещё чего доброго вздумаешь помогать мне – пойдёшь добывать мои пожитки и документики. И сцапают тебя, и выведают, где я сижу! Тогда, ох, плохо мне будет, ох, плохо!
“Мерзость какая, – подумал Бориска про его ухмылку. – Но помочь мужику надо. Не виноват он, что такой не… презентабельный, что ли? Я же не вошь. Я понимаю”.
Бобёр опрокинулся набок, опёр голову на руку, и продолжал улыбаться, провожая взглядом неуверенно уходящего, часто оглядывающегося мальчика.
Борис срывался на бег. Потом одумывался, шикал на себя, образумливал. И возвращался к быстрому шагу, но не оборачивался, чтобы проверить пугающее предположение.
Бориску поглотила сочная зелёная кукуруза. Солнце плыло высоко в небе и жгло соломенную макушку мальчика. Кукурузные верхушки колыхались, обозначая его путь. Лист шуршал. Слежалая земля кидала под ноги сухие комья.
…Всё было прекрасно. Она, как повелось в это лето, шла по просёлку, вдоль рядов высоченной кукурузы, что шепталась лёгким шорохом под дуновением ветра, живя своей таинственной душной жизнью. И Любочка подпевала ей тоненьким голоском.
Ослепительный июльский день ликовал, брызжа скупыми, но радостными красками. Ласточки кружили под самым солнышком. В сорняках прыгали кузнечики, порхали бабочки.
До ужаса самостоятельная, деловитая Любочка тихонько напевала о василёчках-цветочках, собирала ромашки и плела из них венок. Она отстранённо улыбалась миру, трогала травинки, жмурилась небу.
Позади что-то заскрежетало.
– А?! – девочка вынырнула из своего мирка. – Мама?
– Мама! Мама! – звонко закричала она, вскакивая на ноги и вертя головой.
– Чего орёшь, шмакодявка? – было ей в ответ.
Грубый, трескучий мужской голос потряс Любочку.
Она выпучила глазёнки и тут же отскочила от бурой руки, выпавшей из шалаша.
От страха Любочка так сильно сжала пальцы в кулачок, что смяла почти готовую куколку-великаншу.
Из шалаша появился, выползая на свет божий, подслеповато щуря опухшие глаза, неизвестный мужчина.
Вдруг из кукурузы прямо перед ней вынырнуло страшное, почему-то кудлатое лицо карлика, шибко напоминающее морду макаки. Оно дыхнуло смрадом и прошипело:
– Ты кричишь или поёшь, сладкая?
Макака противно захихикала.
– Отстань, отстань, противный, – закричала Любочка. – Я не хотела. Я шла. Я заблудилась.
Мужчина ощерился, навис над ней. Его глаза были глубоки и темны. Из его рта с никогда не чищенными сгнившими зубами дурно пахло.
Существо (мужчина или макака?) уж было хотело броситься на Любочку, но увидало её решимость и завертело головой, осматривая её, задвигало ноздрями, обнюхивая её. Оно заскулило и оплыло мордой-лицом, сделавшись трусливой, жалкой тварью. Оно согбилось, опустило длинные руки, собираясь ускакать на четырёх конечностях. Любочка тут же схватила его за откуда ни возьмись появившийся длинный хвост и возликовала:
– Ага! Попался, мерзкий ублюдок. Теперь ты за всё ответишь, всё мне расскажешь…
Подлое мерзкое существо заверещало так громко и так противно, что земля заходила ходуном, кукуруза закачалась, зашелестела, а у девочки заломило уши, отчего в голове заплескалось раскалённое железо.
Любочка провалилась в черноту.
Митрофан скачет по пустынной дороге. Он видит седого старца в исподней рубахе: то ли блаженного, то ли скорбящего. Он излишне смело бросается вперёд и в брюхо его каурой кобылы впивается длинный ржавый нож. Кобылица голосит всё одно, что баба в муках, и валится набок. Митрофана давит многопудовая туша. Он лежит ни жив ни мёртв, с вывернутой под нелепым углом ногой и почему-то задыхается.
Она прикрыла глаза и побежала к трапу.
“Скорее, скорее! Не останавливайся, никому не отвечай, никого не замечай. Беги, беги!”
цок… цок… цок…
Катя захлопнула дверь каюты, заперлась и опрокинулась на кровать, позабыв раздеться.
Её тут же обнял сон.
Она протёрла глаза, встряхнула головой, чтобы убрать с лица мокрые волосы, и обомлела: перед ней возвышались, плотно обступая, пираты – исковерканные шрамами и болезнями беззубые рожи!
Катя была без шляпки, её мокрое платье бесстыже прилипло к телу, туфли где-то слетели и напоказ выставились кружевные штанишки.
Она подобрала ноги, поправила платье, укрывая даже кончики пальцев стоп в беленьких носочках, и, обхватив всё это богатство руками, зажалась. Она сидела и пялилась на залитую кровью палубу.
– Ха, девочка! – воскликнул капитан. – Так те пожилые дама и господин твои родители? Сожалею, но все они за бортом, кормят акул! – Капитан остановился и обратился к подчинённым, шныряющим на шхуне: – Давайте быстрее, олухи. Пора делать ноги. Шхуну – на дно! Спалить, ко всем чертям!
Капитан стоит у штурвала. Он смотрит на неё. Он улыбается. Она улыбается в ответ. Капитан складывает губы сердечком, приглашая к поцелую, – Катя очарована. Она тянется к его губам. Она не замечает, как поднимается с кресел, как идёт… губы капитана увеличиваются… они большие, обветренные, влажные… они всё ближе, они манят…
Когда над полем поднялись языки пламени, Ушаков стоял возле машины, отряхивая брюки от какой-то липкой, цепкой травы.
– Что такое? – закричал он, но тут же сообразил, что это может помочь.
Но, огонь! Не будет ли худо? Ведь где-то там, в поле, среди кукурузы – его любимая женщина и ненавистный, но ребёнок.
Утро было свежее и ясное. Солнце ласкалось теплом, обещая жаркий день.
Легко, воздушно, как маленькое пушистое облачко или кристально чистый ветерок, Катя выбежала на покосившееся, рассохшееся крылечко в дырявой длиннополой ночнушке и спустилась, босоногой озорницей, в мокроту росы, блестящую на травинках запущенного, неопрятного двора. Она нашла на неухоженной грядке молоденький пупырчатый огурчик и радостно похрустела им, с любопытством и довольством наблюдая приветливый тихий мир.
В затхлой избе сотрясая бревенчатые стены, храпела её бабуля Евдокия, вечно хандрящая, недовольная старушка, не отказывающая себе в удовольствии припасть к чарке с вонючей, едкой водицей, которая тем лучше, чем больше в ней градус и крепче, непередаваемей аромат.
Но тут, в довершении всего, вместо одного пацана, пусть и вполне взрослого, припёрлось к его шалашу аж целых три новых любопытных ребёнка. И среди них оказалась ещё одна девочка. На этот раз вполне взрослая девочка, подошедшая к поре созревания.
Двое новых ребят, плюс одна девочка – это хуже прежнего!
Ему всё чудились овчарки. Они рыскали на длинных поводках. Они жарко дышали и неудержимо рвались вперёд. Они подвизгивали и срывались на лай, и рычали. Они бежали, а высокая трава – кукуруза? – мельтешила, шурша. Он тоже бежал, задыхаясь, выбившись из сил, падая и поднимаясь, бежал и не верил в свой успех.
Бобров часто дышал, просыпаясь тогда в ужасе. Он таращился в небо, утопая в нём, проваливаясь в густоту звёзд, кружась вместе с ними, и долго, как ему казалось, всякий раз соображал: он кричал только во сне или тот его крик был реальным и вырывался в ночь, летя над кукурузным полем? Уносясь к деревушке. Только не это!
Он приподнимался, озирался, всматриваясь в близкие, обступившие его заросли кукурузы, но слышал лишь звон и шорох свершаемой бурной жизни полчищ насекомых.
Недоверие – заразная и упёртая штука: единожды подхватив его, не излечишься за век.
Около девяти часов утра солнце приятно припекало мужчину, развалившегося на подстилке из листьев кукурузы, на половину высунувшегося из хлипкого шалашика и чему-то улыбающегося во сне. Над ним молчаливо, плечом к плечу, с узелками и сумками в руках, стояло пятеро детей. Самой младшей из них было всего каких-то пять годков.
Султан недолго размышлял, кому поручить щекотливое мероприятие: тот, кто поручился за Жору, кто приблизил его, настоял на том, что Жоре можно доверять серьёзные дела, тот пускай и отвечает. Костыль был призван под строгие очи Султана и облечён задачей: поручить Жоре один вопросик, по исполнении которого, тот не должен уйти живым.
Барсук тоже ничего не понимал. Он молча смотрел на вершимую несправедливость, предполагая, что дни, отпущенные “молочным щенятам”, истекли – больше они не нужны. А он? Что с ним, с Жорой? Если так решил сам Султан, если он должен принять смерть от руки друга… что же… так тому и быть… наверное.
Шёл он пять дней. Два раза, понукаемый голодом, Жора заглядывал в деревенские магазинчики, и снова возвращался в лес. Он не знал, сколько ещё надо идти, чтобы немного успокоиться, поверив, что погоня потеряла его след. Сколько он выдержит? Ему надо где-то затаиться, где-то осесть! Но где, как?
– Буханка хлеба, – продолжал Жора. – Не меньше кило колбасы. Плавленые сырки. Пять штук. Десять коробков спичек. Рыбные консервы. Четыре банки. Зелёный лучок. Ух-ты! Селёдка! Вы меня балуете, ребятки-ребятушки! Да к тому же откормите, как хряка на убой!
От неожиданности и брезгливости Саша резко оттолкнул его от себя. Барсук с хрюканьем опрокинулся на спину и громко стукнулся головой об пол. Саша в тот же миг схватил свою кружку с недопитым пивом, подскочил к товарищу и со всего маха расколол её о его голову. Последовал короткий звук – что-то хрустнуло и звонко лопнуло. Полетели брызги пива и стекла, а половину лица Барсука залило чем-то алым.
– А порезал я, помучил, много люда разного – и на нары усадили, удалу-головушку. День в кручине потомился и пустил я кровушку: продырявил пёрышком, я чужое горлышко! Ах, малина сладкая: деньги, водка, карты, бабы – тяжелы чужи-карманы. Дрянь подружку мне подводит, помогает – раздвигает ноженьки. Эхма! ЭЭЭээээ-гггггэээ-гЭ!…..
Ребята послушали-послушали, посмотрели на ошарашенную, но мало что соображающую в происходящем Любочку, давно забившуюся за первые ряды кукурузы, да и заткнули Жоре, как тот и предсказывал, его поганый рот.
Стало необычайно тихо.
Саша отпрянул, лихорадочно заработав руками и ногами, силясь отплыть от него, податься подальше, прочь, в море.
Жора держал руки под водой, и было очевидно, что он продолжает удерживать женщину.
Жора лыбился.
– Куда же ты, мой мальчик, плывёшь? – выкрикнул он. – Ведь мы с тобой так хорошо ладили. Мы же с тобой одной крови: ты да я. Помоги мне. Сюда. Плыви сюда. Помоги. Куда тебе бежать? Там же – только море, одна вода, кругом вода.
– С кем краля якшается, с кем знается, кому милости оказывает, кого ласкает, по ком вздыхает да слёзы льёт в подушку? – нараспев, со склизкой, масляной улыбочкой спрашивал дядя Серёжа у Кати, сидя за покрытым клеёнкой столом, который украшали: початая бутылка водки, три гранённых рюмочки, раскрошившиеся ломти хлеба, блюдца с соленьями и две банки бычков в томате. – Кому глазки строишь, перед кем подол задираешь?.. Ты мне вот что скажи, божий одуванчик, кто тебе нравится больше? Деловой и богатый Бориска, щуплый и смурной очкарик Митька или пучеглазый хряк Сашка? А?.. А может, ты кого-то приглядела в селе? Ты скажи, я там всех знаю. Пойду к его родичам и замолвлю за тебя доброе словечко. Ты ведь мне теперь всё одно, что родная дочь. Глядишь, сыграем свадебку… Гэ-гэ-гэ…
Девочка уснула, и ей виделось только одно: она – в драной одежде, грязная, с перепутанными волосами, вдрызг пьяная, опустившаяся – мерзкая! – женщина, посещающая какие-то вонючие забегаловки, продающая себя даже не за грош, а за гадкое пойло!.. и нет у неё никакого будущего, и нет ей прощения – ни от людей, а от себя самой: ни один кран с горячей водой, ни один кусок мыла в целом свете, ни одна пенная ванна не в силах отмыть её от тех слоёв грязи, что прилипли к ней за долгие годы жизни в навозной куче. Шалава она. Шалава.
Жора нашёл себя в шестом часу утра в каком-то странном маленьком помещении. Через дыру в одной из стен, – видимо, то был вход, – лился тусклый серый свет. Что-то капало с крыши.
– Блю-м… блю-м.
Жора долго не мог пошевелиться, не ощущая своего тела. Губы у него ссохлись, нёбо и язык были шершавы, как наждачная бумага. Тягучая слюна, как протухший кисель, обляпала весь рот. Голова трещала и пухла. Перед сухими глазами, которые щипал воздух, стлался туман.
– Ещё одной такой ночи я не переживу! – сокрушался Жора, в один приём опорожнив бутылку на треть. – А ночь, судя по всему, именно такой и будет. Если бы просто холод и мокрота… Но ведь в таких условиях невозможно спать!.. Всё это во мне будит отчаяние и злость. Зло-О-ость! – Он поднял кулаки, затряс ими. – Гнетущие мысли лезут, ползут… ползут!.. ко мне в бошку. – Он стал пальцами выковыривать то, что проникло в его голову. На правом виске показалась капля крови. – Депрессия… у меня начинается депрессия… Стресс, непереносимый стресс. Я сойду с ума! – Он обхватил голову, закачался. – У меня, детки… детки вы мои милые, у меня не хватит сил противиться этой поганой реальности. – Он посмотрел на пять пар настороженных глаз. – И я пущусь во все тяжкие, – сообщил он буднично.
Когда на Жору навалились дети, как на Гулливера лилипуты, с него схлынула вся злоба, потому что по пьяни ему показалось это действо забавным. Жора искренне рассмеялся. Он расслабил мышцы, позволяя делать с собою всё, что им заблагорассудится.
Жора, не поворачивая головы, не открывая глаз, реагируя на шелест, с напряжением разлепил пересохшие губы и сказал:
– Развязывайте, ребятки, поскорее. Рук-ног не чувствую, а раны болят. Я всё хорошо понял – буду покладистым.
В стены домов толкался ветер, сверкали молнии, небо урчало, но дождя не было. Ночь была тёмной: ни одного огня не горело в деревушке. Выли и брехали сельские или бродячие собаки, неведомо зачем прибежавшие в Тумачи. Было жутко и грустно.
День кончился.
Бориска уснул за минуту до того, как на далёких курантах Спасской башни Московского Кремля пробило полночь. Уснул в привычном для себя одиночестве, под треск поленьев в печи, думая о куда-то запропастившемся отце.
Но чем темпераментнее он двигался, тем сильнее давил тростью на горло Митя.
От боли и невозможности сделать толковый вдох, Жора сдался: не сводя глаз со своего мучителя, он присмирел. Митя ослабил давление на горло – Жора задышал.
И, за чрезмерное усердие в своей забаве, получил он тростью по голове – подарок от Мити.
Удар был не сильным, но достаточным, чтобы отучить Жору от дальнейших попыток затеять свару.
– Ты, Спирька, теперь будешь у меня на особом счету, – процедил Жора, обернувшись к Мите, который и без того был насмерть перепуган своим спонтанным поступком.
Бориска дёрнул поводок. Из-под Жоры ушла нога. Жора рухнул на колено.
– Поговори у меня, – сказал мальчик.
– Не знаю, – понуро отозвался Жора. – Но я тебя съем, щеночек-цып-цып-цып!
– Я – либо щенок, либо цыпа, – подсказал Бориска. – Ты определись с этим, Жора.
– Я определюсь, не беспокойся. Я определюсь…
Такими словами Бориска нагнал на своих товарищей уйму жути… дети утопали в густой высокой кукурузе, что не позволяло косым лучам солнца падать на них – они были облиты плотным сумраком… такое количество жути нагнал на них Бориска, что они уже хотели лишь одного: поскорее добраться до своих домов, чтобы укрыться под надёжной крышей, за надёжными стенами, окунуться в свет электрических ламп.
– Но такому не бывать! Давайте! – сказал Бориска, отсылая их в Тумачи, и пропал в кукурузе.
Преодолевая остаток пути, Катя с Митей не чувствовали ног. Они тащили за собой Любочку, не особо понимающую, что такое случилось, чтобы сломя голову пробираться через поле. А за ними поспешал Саша, понимающий, почему торопятся Катя с Митей, – но сам он был в мыслях с Бориской: он за него очень волновался.
Тумачи были темны и тихи. За окном, как и в избе, ночь без остатка сожрала весь окаянный и прекрасный мир. Даже луна куда-то подевалась… И сверчок, живущий за печкой, и жук-короед, точивший, усердно и кропотливо превращавший потолочную балку в труху, молчали. Молчали и дети, стыдясь собственного страха и оберегая покой друга: “Пускай он видит по-праздничному яркие сны, а я стану его сторожить”. Катя лежала смирнёхонько. Бориска задрёмывал, но тут же начинало мерещиться ему, что к дому подкрадывается Жора – он намотал на руки длинные цепи, чтобы они не роняли в уснувший мир звона и бряцанья, он умелой, натренированной рукой, легко открывает дверной замок и входит… Бориска распахивал глаза, тяжело дышал и смотрел в едва различимый белый потолок, с натугой припоминая и с трудом начиная всё твёрже понимать, что замок у него не один, что ещё имеется надёжный засов и скрипучая дверная защёлка, которую тоже надо задействовать, повернув ручку книзу, чтобы открыть дверь.
Бренча цепями, он поднялся, как только услышал нежный шелест листвы. К нему кто-то шёл. И этот кто-то, если судить по производимому шуму, был один и невеликого роста.
“Кто это? Собака? Ошалелая дура овца?” – “Или ребёнок? Ко мне всё ходят одни только дети…” – “Маленький или напуганный… потому так крадётся. Но тогда зачем идёт один? Может, это маленькая росточком Катя? Или… или Любочка!”
Она стояла и смотрела на него из-за трёх рядов кукурузы. Он её сразу не заметил – так она была мала.
– Любочка! Ко мне пришла Любочка. Навестить пришла? Молодец, деточка. Что же ты встала? Проходи. Располагайся с удобством. Чай не в гостях. Чай для тебя это такой же дом родной, что и для меня. – Жора говорил это и приводил себя в порядок, чтобы не спугнуть ребёнка: надевал и застёгивал рубашку, приглаживал волосы.
– Тогда иди сюда… иди, деточка…
Любочка вяло двинулась к Жоре, который приманивал её улыбкой и широкими жестами, словно собираясь согреть дитя в объятиях. В объятиях, которых так недоставало Любочке.
Маленький шаг. Ещё шаг. Вот уже труба с цепью позади, – а цепь змеится стёжкой к распахнувшему объятия Жоре. Жора неуклюже поднимается… находит зажатую между пальцев дымящуюся сигарету, отшвыривает её и снова распахивает объятия, улыбаясь ещё шире, ещё слаще… Жора уже нависает над девочкой – он увеличился в размерах, он большой, он высокий, а она маленькая, хрупкая, ломкая… Жора манит ладонями: “Ближе, ещё ближе…” Они затягивают, они прельщают – Любочка падает в обруч, созданный руками Жоры, чувствует, как прижимается к его животу…
Когда Бориска проверил крепление цепей к трубам и стал уходить, Жора прорычал:
– Ты, щенок, будешь корчиться у меня в муках! Запомни мои слова.
Бориска не отреагировал на эту угрозу – его без колебаний и возражений поглотили ночь и кукуруза. Шуршали ночные бабочки. Трещали насекомые. Нет-нет да пищала полевая мышь. И грустно, тяжко ухал филин, вздумавший отдохнуть на малорослых старых липах позади огорода Севы Абы-Как.
Жора исходил ненавистью и злобой. Он метался по своему закутку в поле, как зверь в клетке. Он, рыча, упираясь ногами в землю, со всей остающейся в нём мощью, тянул то одну, то другую цепь, вновь и вновь испытывая их и их крепления на прочностью.
Лицо у Жоры ещё стремительнее, чем бег Любочки, оползает, серея, от перемены настроения уже казалось бы захваченной жертвы, перекашивается, свирепея. Жора кидается вперёд, путаясь в цепях. Но девочка уже близка к критической, недостижимой черте – Жора отталкивается правой ногой, и летит, вытянув руки, выгадывая любую деталь одежды, любую часть детского тела, чтобы удержать или хотя бы повалить девочку и, вцепившись, тащить, подтягивать к себе, чтобы жалить, пожирать, ломать, крошить…
– Где же эта проклятая молния? – вопил он. – Где ты, проклятая? Где? Ну же! Ну же! Давай! Сверкай! Сверкай! Сверкай! Гнилостная тварь!
Жидкая вспышка… и крадущийся шорох, вместо грохота разверзшихся небес.
Жора ругался, грязно ругался, – но нельзя было разобрать слов из-за ветра, дождя и грома. Порой доносились лишь отдельные слоги, и казалось, они дополняют вершащуюся какофонию, а то и приободряют её, распаляя пуще прежнего. А может быть, то всё была одна целостная сцена, разыгрываемая в театре одного актёра под открытым небом (в Летнем Театре!), и у этого актёра, который был и автором, и режиссёром, почему-то на службе были очень умелый декоратор и мастеровитый постановщик визуальных и звуковых эффектов? Может, и так… В тот момент, когда на землю упало небо, и начался конец света, одинокий безумный человек, помещённый в центр этого кошмара, выхватываемый молниями из воцарившегося в мире мрака, походил на торжествующего Дьявола, по такому случаю вылезшего из своей Преисподней. А кукуруза гнулась под натиском ветра и под тяжестью холодных дождевых струй.
А ведь было время, когда он спал на перинах, среди шёлка и парчи, с тёплыми, мягкими, приятно-духовитыми, ухоженными женщинами, лакомился отборными яствами, одевался в фирменных магазинах, ездил на роскошных автомобилях и украшал себя золотом и платиной… Но было то время скоротечным, мимолётным… и так давно… очень, очень давно. А вообще-то оно было? Может, всё это только сон, и он всегда жил в глухой сибирской деревушке, и прямиком оттуда угодил в тюрьму, а теперь переведён на заимку, где они с братишками-уголовничками начнут осваивать новый участок, запланированный начальством, валя лес для великой и огромной страны, – и потому он сейчас мокнет и мёрзнет в шалаше? Может, это всё так? Проснись, Жора! Проснись, чтобы проверить!
Жора накинулся бы на них – не вытряс, а вынул бы из них души, вырвал бы сердца, чтобы посмотреть, так ли они бьются, трепещут, как у остальных смертных. Но он успел хорошо усвоить своё положение: за необдуманный поступок его наверняка настигнут последствия самые неприятные… унизительные и болезненные физически, – дети не однажды наглядно демонстрировали готовность и способность воздействовать на него путём грубой силы.
Жора, чувствуя, что близка минута его наказания, покорился – Жора умолк.
Дети потихоньку, но верно становились для него божествами. Но так как Жора был человеком, а значит – был наделён разумом, то он, благодаря такой роскоши, всё ещё не превратился в безропотную скотинку.
Жора широко расставил ноги, словно вбил себя в землю, выпрямил спину, задрал и выпятил подбородок и застыл, наполненный неуступчивым высокомерием. Он – че-ло-век… несмотря ни на что!
– Не балуй, – вяло попросил Жора Сашу, который игрался цепью, легонечко подёргивая её, и она мелодично звенела.
– Порычи, – сухо попросил мальчик.
– Что?! – Жора нахмурился и глянул на него как на сумасшедшего… – Брось, пацан, не балуй – глупости городишь. – Жора опёрся на руки и закинул голову, подставляя лицо пустому небу – ему хотелось покоя и беспамятства.
– А я тебе говорю, порычи!
Жора с ненавистью уставился на Сашу.
А тот, выдержав тяжёлый взгляд, дёрнул цепь так, что Жору сняло с места и завалило набок.
– А я говорю, порычи! – прошипел Саша.
– Бориска, Бориска, ты куда? – закричала Любочка. – Я тут! Подожди!
“Вот напасть! – подумал Бориска. – Что мне теперь делать, куда девать её? Ведь привяжется! Обязательно привяжется. А нужно ли ей всё то видеть?.. Но, если не сегодня, то завтра, она всё равно увидит. Ладно. Пускай идёт… а то обидится или после придёт сама”.
– Давай скорее, – он махнул Любочке рукой.
– Ты куда, где все?
– Да тише ты, – шикнул на неё Бориска. – Чего расшумелась? Не кричи.
– А ты куда? – уже шёпотом спросила малышка.
– Назад. – И Бориска кивнул в сторону шалашей.
– А-ааа, – протянула Любочка. – Вы там? А ты чего приходил?
Обе руки у Жоры серьёзно опухли, а вокруг синеватых пятен образовались жирные жёлтые разводы. Но пальцами шевелить он мог – скорее всего переломов не было. Он укрылся в своём шалаше, и лежал там тихонечко, незаметно, лишь иногда постанывая. Когда его позвал Бориска, он безропотно, но с трудом выбрался, предоставляя себя для лечения.
Когда Катя окончила страшный, но захватывающий рассказ, лицо у Любочки сделалось очень сердитым. Она уставилась на Жору, и на протяжении долгих минут не сводила с него глаз, сожалея о том, что не внесла посильную лепту – не отвесила несколько тумаков проклятущему мерзавцу, посягнувшему на одного из них! К тому же где-то скрывалась, боясь его, её мамочка…
– Здравствуй, отец, – сухо сказал Бориска.
Свет на терраске не горел, и отец плохо видел сына, но ему показалось, что тот смотрит на него жёстко, и во взгляде – независимость. А когда Леонид Васильевич включил свет, Бориска долго жмурился от стоваттной лампочки под потолком, отчего нельзя было разобрать эмоций, охвативших его при неожиданном приезде отца.
Летучая мышь вертанула крылом, совершила кульбит и умчалась, распавшись во мраке.
Ухнул филин.
В глубине неба, опалённого с западного края, мелькнул метеорит.
Ночь приблизилась, навалилась и поглотила крошечные Тумачи.
Ночью была гроза. Но утром на небе не оказалось ни одного облака.
Солнце жгло, обещая к полудню устроить на земле адское пекло.
Любочка подслеповато осмотрела вдруг ставшую недружелюбной, неприветливой, какой-то чужой, обстановку жилой комнаты в избе Бориски, села на кровать… и отчётливо увидала дедушку: он лежит неподвижно, с закрытыми глазами, а вокруг – тоска… стенания, вой, всхлипы… и стукает земля… по дереву… по крышке гроба.
Девочка заплакала.
– Мама, мамочка, где ты? – прошептала она, шмыгнула носом и размазала кулачком сопли, смешивая их с каплями слёз на щеках.
Любочка была сама не своя. Она потерянно озиралась на родном, но непривычно тихом дворе, входила в пустую избу, заглядывала в тёмный сарай, шла как сомнамбула за Бориской на его огород, заходила в его избу – и там казалось ей всё столь же чуждым, незнакомым, холодно-блеклым, отталкивающим, отторгающим её. Всё как-то враз померкло в её глазах, уменьшилось, потеряло смысл, лишившись тепла дорогих её сердцу людей.
Четверо детей отошло к своему шалашу, село там, наблюдая, как Митя пихает мужика ногой в потрёпанной красной кеде.
– Уууу… – зашевелившись, протянул Жора и разлепил малюсенькие чёрные глазки – Митя отскочил от него и присоединился к друзьям. – Припёрлись, чертенята… – сказал Жора. – Поспать не дадут… Чего припёрлись? Слоняются тут без дела… Пошли вон! Я спать буду.
Пять пар детских глаз уставилось на небрежно раскинувшегося и сопящего в обе носопырки Жору: он лежал перед шалашом с голым торсом, обгорая под высоким солнцем.
Жора спал без задних ног.
Ночью была гроза, поэтому он, надо полагать, снова не выспался и к тому же промок. Рубашку он сушил на краю шалаша. Штаны же он не мог снять из-за цепей: вполне вероятно, поутру они тоже были мокры, но теперь, под палящими лучами солнца, штаны полностью просохли. Повязки он содрал – на руках виднелось по одной неряшливой синей кляксе, опухоли заметно не было. Из-за густого загара синяк под глазом был едва различим.
– На нём всё заживает, как на кошке, – подметил Митя удивительную способность Жоры затягивать раны.
– Что такому может сделаться? – добавил Саша. – Разве что переедет бульдозер.
И тут в Жору полетел земляной камешек.
– Любочка!!! – не поворачивая головы, вскричал Бориска. – Ты снова за старое? Да что это на тебя находит?
Он хотел перехватить её руку, занесённую для нового броска, но Любочка увернулась и отбежала от него, и швырнула-таки второй ком сухой земли – тот, так же как и первый, упал за два метра до Жоры, который, прикидываясь спящим, украдкой следил за детьми.
Митя боролся с искушением не больше пары секунд, – он с наскока смачно залепил ногой Жоре под дых. Жора икнул и, оставаясь на коленях, ткнулся лицом в кукурузную подстилку.
– Ты хочешь нас убить? – вскричал Митя. – Всех нас убить? Ты только этого всегда хотел? Ты и не думал идти на мировую?
– Пошла к чёрту, малолетняя дура! – прошипел мужчина, поднимаясь. – Знать я не знаю ни о какой тётке, чей-то там мамочке. Я сам по себе. Ясно тебе? Сколько раз повторять? Избавьте меня от этой чокнутой. Сколько можно терпеть? Я всё же не каменный – прибью ведь, к едрене фене, так и знайте!
– Я те прибью, – сказал Бориска. – Смотри, как бы тебя не прибили. Лучше скажи то, что от тебя хотят услышать.
– Да что же это такое! – Жора всплеснул руками. – Это какая-то фигня, ей-богу! Куда я попал? Это же форменная психушка! Не дети, а психопаты. Таких придурков, как вы, надо мочить в самых зачатках! Жалко, я вчера не сломал шею Катьке – одним придурком стало бы меньше! Глядишь, мои шансы на свободу выросли бы… а так… мне ничего не светит… вы же дёрнутые! Вы прибьёте ради одного удовольствия! Чего ждать от узколобых? Эй!!! – Жора припал на правую ногу. – У, бестия! – огрызнулся он. – Гнида в юбке с косичками.
Пнув Жору по икре, Любочка отбежала на безопасное расстояние и оглушительно, пронзительно закричала:
– Сам гнида! Гнида, гнида! Гнида Жора! Гнида…

– Я хочу выдать вам… – Жора подался вперёд, понизил голос, – в знак моей смиренности и для придачи вам большей уверенности… пистолет.
– Я так и знал!!! – возликовал Митя, вскакивая на ноги и потрясая руками. – Я говорил, я говорил, что у него должна быть пушка! Я был уверен, что он её не сбросил. Он никогда бы не расстался с такой замечательной, важной вещью!
– Ты прав, Митяня, – сказал Жора. – За мной гнались две шакальи стаи – одна другой паскудней. Я не мог даться им в руки без достойного боя. А к шестёркам моего шефа вообще лучше не попадаться – эти мальчики любят попытать, помучить, потерзать. За ослушание, за то, что я не согласился пасть жертвой их заговора, они надо мной поглумились бы всласть! Это уж поверьте мне. Уж лучше самому себе расколоть лоб пулей, чем оказаться в их лапах. Но прежде, я забрал бы с собой парочку их жалких душонок… я бы постарался… ах ты, п-фу, гниды!