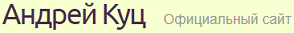ЕГОРУШКА
Андрей Куц
Ночь сомнений
15 дней назад (12 июля, среда)
(продолжение)
День таял в непривычной мирной обстановке.
Дети скучали, изнывая от зноя.
Время тянулось медленно, сонно.
О мужике они не говорили, но каждый неустанно о нём думал.
В первом часу дня на самосвале приехал отец Мити, Николай Анатольевич Потапов, на обед, а заодно, чтобы отвезти на реку дочь и жену. А Мите надлежало напоить и накормить живность: две свиньи, выпущенных в вольер, одного бычка, пасущегося на привязи за огородом, на скромном лужке, устоявшем перед натиском бескрайних полей, и два десятка кур, бродящих там, где им вздумается.
Отец Мити был с упёртым, скверным характером, требовательный и порой злой. В зависимости от сезона и возникшей необходимости он пересаживался за баранку или брался за рычаги любой фермерской самодвижущейся техники: грузовики, комбайны, косилки, тракторы, бульдозеры и так далее. По специфике своей работы, от личного немалого подворья, от жития на отшибе, наличия двух детей и калечной жены, он часто воздерживался от выпивки, что не редко выводило его из равновесия, ввергая в злобу. В такие моменты лучше было не задевать его и исполнять любые капризы. Но до рукоприкладства дело никогда не доходило: только тычки да затрещины с понуканиями, назиданиями, выговорами, да и то всё более по хозяйственным вопросам, по неисполненному или попорченному домашнему делу.
Когда-то он без памяти любил свою жену. Теперь же он всё больше жалел её, и вместе с нею жалел себя, – так неудачно сложилась, обернулась жизнь.
Нина Васильевна Потапова, мать Мити и жена Николая Анатольевича, по словам многих в бытность ничем не уступала первой красавице в округе Зойке Марковой. Зойка уже двадцать лет, как исчезла где-то на просторах необъятной родины, ни слуху ни духу. А Нина осталась. И сошлась с упёртым, хозяйственным, исполнительным Николаем. В ту пору они решили, что лучшим местом для заведения собственного обширного подворья будет один из домов в Тумачах, потому что дёшево, почти что за бесценок, есть из чего выбирать, и близко от Житнино. Так они и поступили, зажив самостоятельно. Появилась Верочка, а через три года Митя. Вторые роды были скоротечными и завершились до приезда врачей, неудачно, с осложнением. С тех пор Нина Васильевна, получив инвалидность, переваливалась как упитанная утка, ковыляя-кувыркаясь с боку на бок, и всё через боль. Она занималась только домом, хозяйством и детьми, – но и это очень скоро стало ей в тягость, так что пришлось поумерить аппетит и ограничиться скромным количеством домашней живности. С того времени начала она жухнуть, как опавший лист.
Дочка Верочка росла умницей. Теперь ей было шестнадцать лет, и это была плотно сбитая деваха, не то, что её щуплый братец. «И в чём только у тебя душа держится? – часто выговаривала она нескладному и неумелому Мите. – И в кого ты такой уродился!» Сама она была истой труженицей. Скорее всего это происходило от её жизни вдали от цивилизации, без подружек под бочком, с которыми можно посекретничать и помечтать, и от того, что она не блистала, как её мать в юности, красотой: была она не то, что бы дурнушка, а больше невзрачная, по причине внешней блеклости: её лицо не привлекало взгляда и даже, вроде как, не запоминалось. Она уже раздалась в бёдрах и в груди, но не так, как это положено сдобной дивчине, а как это случается с молотобойцами, которые день и ночь орудуют по наковальням, лупцуя раскалённое железо. Она поигрывала мышцами и, если бы вздумала и не на шутку разошлась в возбуждении, которое редко с нею случалось, легко могла бы поднять Митю над головой и зашвырнуть его в колючий бурьян за огородом или в преющую, перегнивающую кучу силоса.
Мите казалось, что Вера за что-то на него злится… так же как отец. Вера действительно иногда задумывалась об участи матери, и с неё перескакивала на всех женщин мира, не забывая о себе: они стремятся рожать, рискуя своим здоровьем, своей жизнью, а нет-нет да получаются вот такие вот оболтусы и непутевые хиляки. «Ради кого мы страдаем? – удивлялась Вера. – Погибаем! Ради такого заморыша? Лучше мать была бы здоровой. И тогда я была бы в семье одним-единственным ребёнком, – добавляла она про себя, – любимым, самым-самым любимым, и всё у нас было бы легко и весело – хорошо!» Иногда при таких мыслях в зону досягаемости Веры входил брат Митя, – и тогда он летел вперёд головой, в стену, быстро-быстро перебирая ножками, чтобы не упасть. И хорошо было, если он успевал выставить перед собой руки! Вера с презрением смотрела на это беспомощное существо, жмущееся к стене, и к ней в грудь закрадывалась предательская жалость, – чтобы уйти от неё, она уходила сама, оставляя Митю сидеть на полу, боязливо и непонимающе тараща глазёнки через внушительные линзы многострадальных очков и потирать ушибленное место.
Так как Бориска позабыл купить хлеба, поспешив возвратиться из Житнино в Тумачи, бабушке Любочки пришлось идти на поклон к отцу Мити, просить его «купить хлебца».
Николай зло зыркнул на Бориску, стоящего у калитки.
– Ладно, – проворчал он. – О чём разговор. Часам к семи привезу. Потерпите?
– А как же, а как же, – торопливо проговорила Лидия Николаевна, – нам не к спеху. На обед у нас хватит, нам бы на ужин да на завтрак.
Для Николая Анатольевича это было не в тягость. Он давно свыкся с тем, что порой надо привезти не только продукты соседям, но и их самих надо подбросить до села, а то и до места работы, – конечно, когда он сам на «колёсах». К тому же, когда до ближайшего населённого пункта полтора километра по просёлку, всё это понятно: кушать-то оно хочется всякому. Бурчал он скорее в назидание пацану, не выполнившему взятую на себя обязанность, при этом припоминая собственного отпрыска – отчего скоро сообразил, что Бориска как раз очень даже обязательный ребёнок и к тому же самостоятельный шкет!
– Хорошо-хорошо, Лидия Николаевна, не извольте беспокоиться, привезу в лучшем виде, как обычно.
Он забрался в кабину. Оглушительно хлопнул дверью. Дождался, покуда заберётся Вера, – жене он уже помог разместиться на грязных сидениях. И самосвал, подняв облако пыли, колыхая кузов на старых рессорах, скрылся за бугром.
Любочка волновалась тем заметнее, чем ближе подходил час для проверки наличия в шалаше Боброва. Она единственная открыто проявляла нетерпение и всё спрашивала, когда же они пойдут, не время ли уже, может, пора идти? Ребята качали головами, молча придаваясь незамысловатым развлечениям. Любочке не сиделось на месте, потому что у неё к дяде появились вопросы о маме.
Бориска видел стремление Любочки к скорейшему свиданию с дядей, замечал смятение и смущение Кати, столь же непонятные, как поведение вдруг притихших Мити с Сашей, и тоже с каждой минутой нервничал всё больше, не находя приемлемого ответа на волнующий его вопрос: какова истинная причина, приведшая мужика в их края и заставившая его поселиться в поле?
«Если он ещё объявится», – уточнял Бориска.
Катя понимала своё глупое поведение и опасалась, что при встрече с Костей, она вовсе потеряет над собою власть. Поэтому утром она не пошла с Митей и Сашей к шалашу. Но, немного успокоенная нудно тянущимся днём и наличием всех ребят при будущем визите, она отважилась-таки распутать неудобный для себя шерстяной клубок – встретиться с тем, кто заронил в неё смятение. Однако, она надеялась, что мужчина ушёл навсегда.
Митя и Саша, ещё утром предвкушавшие близость того, что завладело ими ночью, что нёс в себе этот, судя по всему, отвязно-отважный, бывалый низенький мужчина, надеялись, что они не обманулись, и он их не предал: неожиданно возникнув из ниоткуда, он не растворился в неизвестности столь же неожиданно.
Все нервничали.
В три часа дня Боброва на месте не оказалось.
Ребята облазили всю прилегающую территорию – никого! Пришлось возвращаться ни с чем. Для кого-то это было облегчением, для кого-то разочарованием. Они договорились, что сегодня ещё раз проверят шалаш, ближе к девяти часам, так как раньше не получится, потому что вечером придётся не только поливать посадки, но и таскать воду на завтра, чтобы за следующий день она согрелась под солнцем, лишилась бы холода глубокого колодца.
За час до возвращения с работы родителей Саша был дома. Он приготовил необходимый инвентарь к вечерним заботам и осмотрелся. Всё было в порядке. По его мнению, от родителей не должно было последовать никаких нареканий, ничто не должно было спровоцировать конфликта, который мог помешать вечерним планам мальчика.
Саша терпеливо дожидался их прихода.
Минуты таяли. Родителей не было.
Саша стал волноваться, предвидя пьяный галдёж, жалобы, недовольство – склоку.
В половине седьмого он услыхал двух женщин, разговаривающих у колодца на повышенных тонах. Один из голосов был ему особенно неприятен – это был голос матери. Существовало две причины, способные объяснить её дурное настроение: либо она выпила, либо не смогла увести из Житнино отца, куда-то намастырившегося с дружками. Последнее означало, что отец придёт часом-тремя позже и будет под «мухой», и неизбежен скандал, в эпицентр которого обязательно вовлекут Сашу. Чтобы проверить последнее, мальчик взял лейку с водой – вроде как он идёт к грядке с петрушкой для поливки, – дошёл до забора и осторожно посмотрел, что делается возле колодца и нет ли где-то рядом отца.
Мать разговаривала с Хромовой Евдокией, бабкой Кати, которая выползла на улицу, по-видимому, испить холодной колодезной воды, в надежде изгнать похмельную хворь. Мать Саши в который уже раз отвечала, что сегодня не видела её дочь, со вчера затерявшуюся в селе. И они перескочили на отца Саши, прогнавшего жену под предлогом, что он проворачивает в Житнино важную сделку, полезную для благосостояния семьи.
Саша отправился поливать грядки.
Он действовал споро, слаженно – привычно, – высокий, густо усеянный веснушками белёсый мальчик с большими ушами, выпученными голубыми глазами, с широким ртом, пухлыми губами, ширококостный, с голым торсом, загорелый, мускулистый: чем больше он успеет сделать, тем больше у него шансов избежать придирок матери и убраться со двора до появления отца.
Мать без слов прошла мимо сына. Она несла две нагруженные продуктами сумки, отдуваясь, потная, и затерялась за стенами избы. Татьяна Михайловна, попив чайку и переодевшись, через двадцать минут вышла на воздух и встала громоздким изваянием возле бочки с водою, из которой Саша наполнял лейку. Она скроила строгую физиономию, сплющив такие же как у сына полные губы так, что они выпятились далеко вперёд, отчего подбородок утоп в двух жировых складках под шеей, вроде как вовсе исчезнув с её круглого лица.
Сын споро работал.
Татьяна Михайловна не нашла, что сказать, и двинулась по огороду, прикидывая-оценивая, что и где надлежит сделать.
В половине восьмого перед домом остановился самосвал. Громко хлопнула дверца. Машина отъехала, чтобы пристроиться в накатанную колею у дома Потаповых. Послышался надтреснутый бас Михаила Борисовича Кулешова, обращающегося к сыну:
– Ты всё ещё поливаешь? Пора бы закончить. Небось, нас дожидался? – Не получив ответа, он продолжил. – Нас дожидаться нечего. Не маленький, должен понимать и мочь самостоятельно управляться с хозяйством. Дел у меня и без этого навалом. Я не прохлаждаюсь. Я думаю. Думаю, как в семью принести денег… да побольше, побольше, вот так… ага!.. ну, поливай, поливай, да не забудь натаскать воды на завтра, слышишь?
– Угу, – отозвался Саша, а сам между тем подумал: «Знаем мы, что у тебя за работа: воруешь так, что не спится ночью. И не потому не спится, что мучает совесть, а потому, что ещё много остаётся тобою неподобранного, а сразу всего не унесёшь. Вот руки и зудят, хотят они до всего добраться, всё захапать». – Саша окунул лейку в бочку.
– Явился, – завела тем временем давно заезженную пластинку мать. – Не запылился? Никак на ногах стоишь? Надо же! – съехидничала она.
– Я выпил самую малость, – пояснил муж.
– А! Ну как же! – Мать всплеснула руками. – Что слону дробина, так, что ли? Это какие же теперь нужны дозы, чтобы свалить тебя с ног?
– Жена, давай-ка прекращай, – строго сказал Михаил Борисович. – Я наладил одно дельце. Предвидятся неплохие барыши, а ты! Эх, мать, зачем ершишься? Ты же у меня понятливая, только вот иногда…
– Ну-у, – сурово протянула Татьяна Михайловна. – Продолжай.
– Тебя заносит. Упрёшься, как баран в запертые ворота, и хоть бы тебе что. Ум так и теряешь.
– Вот оно как? Значит, я безмозглая?
– Да не то чтобы… совсем, – Михаил Борисович масляно улыбнулся и полез обниматься с женою, – всего лишь чуточку, вот такусечки. – Он показал тоненький просвет между пальцами. – Дай, дай поцелую. – Татьяна Михайловна подставила щёку.
Но Михаил Борисович не ограничился поцелуем. Он показал бутылку водки, запрятанную во внутренний карман пиджака.
– Ну, пойдём в дом, – проворковала жена. – Переоденешься, умоешься, а я соберу на стол. Я кое-что купила.
Мать с отцом скрылись в доме, – а Саша собирал со дна бочки воду и бесился от переполнившего его отвращения, и злился, что ему опять предстоит в одиночку таскать воду из колодца.
Надо сказать, что Михаил Борисович работал в селе заведующим по механическому складу, где частенько безвозмездно и навсегда заимствовал вверенные ему запчасти или распределял их с умыслом, по определённой, взаимовыгодной договорённости. Мать же каждодневно возилась с кишками на небольшом заводике, расположенном на северной окраине Житнино, что не прибавляло ей, и без того ворчливой, благолепного восприятия окружающего мира. Их младший сын Дима, теперь забавляющийся в летнем лагере, был в фаворе – ему многое прощалось, при этом в равной пропорции больше взыскивалось с Саши. Но Диме тоже жилось несладко, и его нет-нет да захлёстывала волна, пущенная обширными телами родителей, где хранился неспокойный нрав. Затрещины и тычки, а то и ремень, прописывались обоим мальчикам, но с разной периодичностью.
Бориска раньше всех разделался с вечерними заботами, поэтому он помог Теличкиным заготовить воды впрок. Что поесть на ночь грядущую, у него было – не стоит беспокоиться: вечные щи-каша, сваренные им три дня назад из собственноручно заквашенной капусты, самолично купленного пшена и куска отборной парной свинины, который он добыл у частника в селе, а не в поселковом магазине.
Ожидая визита в шалаш и последующего ужина, Бориска уселся возле завалинки своего дома на маленькую скамеечку. К нему присоединилась Любочка, по малости своих лет немножечко, кое-как тоже подсобившая дедушке с бабушкой.
Шёл девятый час вечера.
– Бориска, – заговорила Любочка, – ты знаешь, Бориска, что мне приснилось ночью?
– Не знаю, Любочка, – сказал Бориска. – Что же?
– Мне приснился страшный маленький человечек. Он гонялся за мной по полю, в ку… ку-куюзе. Я пошла за водой для этого нашего дяденьки, и всё никак не могла дойти – я заблудилась в поле. Представляешь? А он, не дотерпев, без воды умер. И потом превратился в… карличка. И уже была ночь. И я испугалась, что не найду дороги. И он нашёл меня в кукуюзе.
– Кто? Мужик?
– Да. То есть нет. Карличек. Мужик умер и стал… кар…
– Карликом. Карлик.
– Да. Карликом. Вот. И этот карлик хотел наказать меня, потому что я та-ак долго несу воду… всё несу и несу… а он умер.
– Кто? Карлик?
– Ой, какой ты, Бориска, бестолковый! – возмутилась Любочка. – Как же карлик может умереть, если он стал карликом, потому что умер мужик. Мужик умер и появился из него карлик.
– А…
– Ну вот. И я от него убегала. А потом проснулась, потому что он меня догнал! И я уже не могла от него убегать, а он мог меня съесть! – Любочка многозначительно посмотрела на Бориску.
Бориска был суров.
«Ну вот, – подумал он, – маленькая Любочка ночью видит ужасы. А всё почему? Потому что мужик плохой! Я был прав и не виновата в том моя мнительность».
– Не думай о нём, – сказал мальчик. – Забудь. Он ушёл и больше не вернётся. Сейчас дождёмся ребята и сходим, проверим, убедимся, что его нет. И больше не будем о нём вспоминать. Да? И от этого станем спокойно спать. Как прежде. Спокойно спать и видеть только радостное и хорошее.
– Нет, Бориска, – качая головой, серьёзно сказала Любочка.
– Почему нет?
– Ты же знаешь, что мне всегда снятся плохие сны.
– Ну уж прямо-таки всегда?
– Ну…
– Не всегда!
– Не всегда, но плохих больше.
– Не надо об этом.
– Нет, Бориска. Я потому и рассказала мой сон, что он об этом.
– Как это? Почему?
– Так ты слушай дальше, чего перебиваешь?
– Ну, извини!
– Извиняю. Только ты слушай… какой ты непоседливый, всё тормошишься, и не даёшь досказать, – сделала внушение Любочка.
Бориска поник головой, сокрушаясь.
– Каюсь, каюсь…
Он потряс кудрями.
– Всё тебе шутить. Я серьёзно.
Бориска сотворил невозмутимое лицо – приготовился слушать.
– А потом я увидала огонь. – Бориска шевельнулся. Такое он слышал уже не раз, это было тяжёлым воспоминанием не только девочки, но и его собственным. – Поле горело… и я – в нём… ну… там всюду огонь, вокруг. Я всего говорить не стану. Ты знаешь… Всё также. И я подумала, что мужик в шалаше – это тот мужик! Что это он увёз мамочку. И вот теперь она от него убежала. И он её ищет. И я смогу как-нибудь узнать от него о маме… и сама поищу её. Может, она где-то совсем рядом, только я не вижу её, а она не выходит, потому что рядом этот мужик. Она боится его! Она боится, что он снова увезёт её от меня. И теперь этот мужик нашёл её, и поэтому в шалаше его нету!
– Ну, ты это… – Бориска был удивлён необычайно буйными фантазиями Любочки. – Знаешь, моя дорогая, не путай сон и реальность. При чём здесь то, что тебе приснилось, и то, что его сегодня целый день нет в шалаше? И вообще, причём здесь этот мужик? Это совершенно посторонний мужик. Он никакого отношения к твоей маме не имеет. Поняла? Так и заруби на своём курносом носу. Это – не он!
– Ты так думаешь?
– Я знаю, – твёрдо сказал Бориска. – Того я видел и помню. Ты была маленькой, и поэтому не помнишь. А я помню. И я тебе говорю, этот – не тот.
– Тогда… тогда, может, это его знакомый? – Быстро сообразила Любочка. – Он ему помогает, чтобы мама не испугалась, когда она придёт ко мне. Она же не знает этого мужчину, и попадёт прямо к нему в лапы. – Любочка поджала нижнюю губу, сдвинула бровки домиком, и у неё заблестели глаза, наполняясь слезами.
– Ну, ну, не хнычь, – Бориска обнял девочку, прижал к себе, стал гладить по голове, по спине. – Не плачь… ну, ты чего это… перестань.
«Я так и знал, – думал при этом Бориска, – всё закончилось так, как всегда. Проклятые выродки!»
Любочка плакала, а Бориска старался утешить её, глядя на закат – на жёлто-оранжевый край неба.
Он мог бы многое рассказать Любочке о тех страшных для неё давних событиях, но до сих пор этого не делал. Ещё больше могли бы рассказать, конечно, её бабушка с дедушкой, но они тоже этого не делали, – зачем? Суть – девочка знает. И эта суть всё ещё преследует её в воспоминаниях. А успокоительной лжи уже сказано немерено.
И хотя Лидия Николаевна и Василий Павлович Теличкины знали многое из жизни своей дочери, они не могли знать больше её самой, потому что Надежда Васильевна и её муж Валерий Павлович Ушаковы не открывали им всей горестной правды…
Надя очень рано покинула отчий дом. Только исполнилось ей шестнадцать лет, как вскочила она в рейсовый автобус на остановке в Житнино и, в поисках лучшей доли, укатила в сторону шумных больших городов. Там она устроилась на фабрику, швеёй, одновременно посещая вечернюю школу – стремясь всё же получить полное среднее образование, чтобы поступить в институт, в который, как она знала, её с удовольствием направят от фабрики. Так оно и вышло, и уже на второй год учёбы в институте она познакомилась со своим будущим мужем, слушателем пятого курса. Через год они поженились.
Был 1998 год. Фабрика, на которую они вернулись, уверенно дряхлела. Настали смутные времена. А Валерий Павлович был человеком с амбициями: он желал высоких руководящих постов, великих достижений, – так что ему надлежало как можно скорее приспособиться к новой действительности и устремиться на Верха. Поэтому о рождении ребёнка, которого хотела Надя, не могло быть речи. К тому же они жили в комнатушке общежития, так что – не ко времени это, не ко времени, Надюша. Но уже шёл декабрь 1999 года, и Надя не имела возможности дальше скрывать своё положение. Она была вынуждена открыть мужу то, что в ближайшие годы в его планы не входило: он очень скоро станет отцом. Валерий Павлович был до крайности удивлён таким нежданным происшествием. Он чертыхнулся про себя и смирился с неизбежным. К тому же в последние недели перед тем, как одарить мужа радостным известием, Надя ходила чернее тучи и чахла на глазах. Он посчитал, что она извилась по его вине, зная его категорическое неприятие спешки в подобном вопросе.
Но, не смотря на решение мужа не мучить ее и всячески поддерживать, Надя почему-то продолжала хиреть. Уже близилось время рожать, а она всё никак не ободрялась. Ушаков уж было решил, что она просто-напросто опасается родов, – и это естественно, посудил он, – и утешал, подбадривал её, но в ответ Надя лишь заливалась горючими слезами.
Надежда Васильевна была благородной женщиной, поэтому, ценя участие мужа, не желая далее строить совместное будущее на лжи и чтобы до рождения ребёнка понять, где и с кем ей жить, она наконец отважилась на отчаянный шаг: она созналась мужу в том, что ребёнок не его.
Валерий Павлович был сражён. Он не мог вымолвить и слова. До сих пор ему казалось, что у них всё хорошо, что они вроде как всё ещё друг друга любят и тут – такое!
А Надя на этом не успокоилась – она его добивала. Не ради простых, но страшных для мужа слов она каялась в своём грехе. Не ради них. Нет. А потому что… потому что это не её грех! Не виновата она. В сентябре 1999 года, в тёмный вечерний час, на задворках Л*** переулка её остановили двое мужчин и грубо, неучтиво препроводили в заброшенный одноэтажный кирпичный домик. Там она увидала ещё двух мужичков. Все они были изрядно пьяны, а вид у них был затасканный – бомжеватый. Её опоили и подвергли насилию.
Долго продолжалась попытка понимания и принятия столь ужасающего факта обоими супругами, при всём при этом остававшимися вместе. Ни один из них не понимал, что же теперь делать, как жить, как быть? Отношения дали трещину. Валерий Павлович заикнулся об аборте, который невозможно было исполнить, потому что сроки давно вышли. Он попробовал настаивать на том, чтобы отдать ребёнка в приют. Но Надя уже решила, что не только родит ребёнка, но будет воспитывать его, как истая мать. Вопрос заключался лишь в том, будет ли она делать это вместе с мужем или расстанется с ним и вернётся к родителям.
Детали зачатия в заброшенном доме не отпускали Надю, отравляя отношение к созревающему в её чреве плоду. Дитё было её, но временами оно было невыносимо противно, отвратительно ей, и эти чувства сохранялись долгие годы. Надя чувствовала себя грязной, недостойной женщиной. Ей было стыдно смотреть в глаза мужу. И ничем иным не мог похвастать Валерий Павлович. Чувства у него были те же. И не только к Наде и к тому, что в ней сидело, но и к себе: он воспринимал оскорбление жены, как личное оскорбление, не искупаемое никаким покаянием.
14 июня 2000 года ребёнок, дитя или «то, что в ней сидело» родилось, и оказалось Любочкой.
Напряжение в семье Ушаковых не спадало: дрязги, переходящие в истерики, не прекращались. И Надя собралась и уехала с ребёнком в Тумачи.
Подходил к концу 2000 год.
После продолжительной паузы Валерий Павлович стал наведываться в Тумачи и мирно переговаривать с Надей. Пожив без неё, он, пока не уверенно, но вроде как смирился с тем, что случилось, осознал, что это не вина Наденьки, без которой ему плохо, и в качестве жены он видит лишь её одну.
Они сошлись снова. А через неделю обстановка в семье заполыхала огнём: видя, как его дорогая жена заботится о ребёнке, сколько времени и внимания посвящает ему, Валерий Павлович жутко ревновал и в то же время брезговал этим нечистым ребёнком, потому что, смотря на него или всего лишь слыша его плач, он представлял себе того мерзавца, который мог быть его отцом, и виделись ему картины насилия над его Наденькой. Валерий Павлович запил, он подолгу не бывал дома, а когда бывал, то скандалил или игнорировал жену. Тогда Надя опять ушла.
На этот раз Надя пробыла у родителей около года, прежде чем заявился Валерий Павлович. Настроен он был решительно. Валерий Павлович приехал с намерением забрать жену, оставив ребёнка по имени Любочка на попечение родителей Нади!
Надя очень хотела вернуться к мужу, но расстаться с Любочкой?
Муж поведал жене о своих внушительных успехах, которые случились с ним нежданно-негаданно. Скорее всего они произошли по причине крушения его надежд на безоблачное семейное счастье – это подвигло Валерий Павлович пуститься во все тяжкие. Он сошёлся с приятелем по студенческим годам. Они заручились поддержкой сомнительных личностей и приобрели ветхую фабрику, и уже через год имели внушительный достаток. В дальнейшем они спланируют спекуляцию и успешно потеряют фабрику, благодаря чему пожмут друг другу руки и расстанутся долларовыми миллионерами, чтобы самостоятельно развивать иные источники обогащения, что позволит Валерию Павловичу Ушакову к 2004 году абсолютно ни в чём не нуждаться. Так что летом 2002 года, когда Любочке шёл третий годок, Василий Павлович Ушаков имел весьма определённые виды на будущее и очень определённое положение в обществе. Ему недоставало только жены. Которую он, между прочим, имел! И он был не прочь наживать с нею вожделенное им благосостояние. Найти же другую жену, ему не удавалось, да он и не стремился. Надюша по-прежнему была для него его Наденькой.
Летом 2002 года Валерий Павлович приехал за своей Наденькой не один. Его сопровождало трое коротко стриженных, плотно сбитых парнишек в белых рубашках с закатанными рукавами.
Разговор между Валерием Павлович и Надеждой Васильевной состоялся серьёзный. Валерий Павлович, в последние месяцы приобщившийся к суровым реалиям свободного, но теневого рынка, огрубел, став более категоричным и сдержанным. Он не воспринимал от Нади слова «нет». Если она откажется уехать с ним по-хорошему, он увезёт её силой. Баста!
Когда Надя наконец постигла, что муж без неё не уедет, она поддалась порыву и бросилась наутёк, затерявшись в кукурузном поле.
Бабушка и дедушка с внучкой Любочкой всё это время были на улице. Их не пускали в дом трое парнишек. Когда Надя выбежала из дома, они вцепились в своих стражников, не давая им броситься за дочерью. Они стали кричать и угрожать. Парнишки взяли их в охапку и заточили под запор в сарай. Но крошечной Любочке каким-то чудом удалось улизнуть в черноте ночи и поднявшейся кутерьме, – она исчезла в кукурузе вслед за мамой.
Была ночь. На деревне было тихо. Немногочисленные жители Тумачей таились, выключив свет в домах. И даже тот, кто был в стельку пьян вжался в стену или в угол своего дома, или забрался в ближайший куст, чуя близкую неведомую опасность, неизвестно откуда взявшуюся в их богом забытой деревне.
Надю искал муж. Надю искало трое плотно сбитых парней в белых рубашках с закатанными рукавами. Маму искала Любочка. Но найти в глухую ночь среди плотных рядов кукурузы притихшую Надю не было никакой возможности.
Ушаков уже и не знал, что делать: дожидаться утра или продолжать поиски? А если она забралась глубоко в поле и будет сидеть до последнего, упорно? Тогда не сыскать её даже днём. А у Валерия Павловича нет времени. Какой день? Жаль лишнего часа! У него намечены срочные, неотложные дела. А если она доберётся до Житнино и привлечёт помощь?
Было решено продолжать поиски. К тому же оказалось, что у ребяток в белых рубашках имеются: бинокль, мощный фонарь, пять раций и наган.
Были включены фары автомобиля, на котором они приехали, и нацелены в поле. Один из «быков» забрался на крышу дома, вооружился биноклем, фонарём, и стал по рации направлять остальных.
Минуты шли, минуты таяли, а результат был тот же: женщины не отыскивалось. Лишь Любочка тихонечко перебегала в кукурузе и также тихонечко выкликала маму. Её не ловили. Ею пользовались как наживкой.
Надя держалась стойко. Она не подавала признаков своего присутствия, но и не уходила за помощью в село, так как слышала голос дочери. Она ждала подходящего момента, чтобы с нею сойтись и уже вместе пробираться в Житнино.
Когда над полем поднялись языки пламени, Ушаков стоял возле машины, отряхивая брюки от какой-то липкой, цепкой травы.
– Что такое? – закричал он, но тут же сообразил, что это может помочь.
Но, огонь! Не будет ли худо? Ведь где-то там, в поле, среди кукурузы – его любимая женщина и ненавистный, но ребёнок.
Из кукурузы выбрался один из «быков» и ухмыльнулся:
– Хорошо горит, – сказал он и с наслаждением посмотрел на своё творение, поощряя свою смекалку, реализованную без ведома патрона. – Мы её сейчас быстро найдём, выкурим миленькую пташку. Никуда не денется. Забеспокоится и побежит за дочкой.
Валерий Павлович не находил, что сказать. С одной стороны, придумано неплохо: облить участки поля бензином и поджечь. С другой стороны, могут быть жертвы! Если бы ему взбрело в голову избавиться от жены раз и навсегда, то устроил бы он это как-нибудь иначе. Но он приехал в Тумачи не за этим, а потому что она ему нужна!
Вдруг с крыши, где сидел бугай с фонарем и биноклем, донёсся крик:
– Вижу, вижу! Вон она! Вон!
Бугай тыкал пальцем куда-то в поле, где Надя спешила на помощь к дочери: маленькая Любочка, ничего не видя среди великанши-кукурузы, попала в самое полымя и перепугалась, и во весь голос завизжала-закричала, призывая мамочку.
Ушаков тут же кинулся в кукурузу. Но он бежал не к жене. Он бежал к маленькой девочке, потому что он не желал ей зла, он желал себе счастья.
Он подхватил Любочку на руки в тот момент, когда на него выскочила Надя.
Они уставились друг на друга, – а вокруг горела, затухая, ещё не достигшая зрелости кукуруза.
К ним подбежал тот, кто затеял огненную свистопляску, и схватил Надю.
– Попалась! – Он ликующе ухмылялся.
Он посмотрел на патрона в ожидании распоряжений.
Ушаков кивнул в сторону машины, пересадил девочку на руки другому своему охраннику и пошёл вперёд.
Любочка заплакала и протянула ручки к маме, уводимой двумя мужчинами, которая упиралась, вырывалась и всё дальше отдалялась от дочери.
Бугай опустил Любочку на землю и наказал стоять на месте, а то мамочке будет плохо. Любочка перепугалась нависшей над ней морды и не посмела ослушаться. Мужчина ушёл, а Крошечная Любочка стояла и слушала, как шуршит кукуруза, а потом заработал двигатель, донёсся слабый вскрик мамы, хлопнули двери, и Любочка увидела движущийся желтый свет фар. Он ослепил её, и Любочка осталась одна-одинёшенька в кромешной темноте, в окружении обгорелой высоченной кукурузы.
Вот этот пожар в поле, когда увезли маму, Любочка и вспоминала до сих пор, он-то и чудился ей во сне, и не только во сне.
Она никогда не различала деталей той страшной и горестной ночи. Тогда в её маленькой головке всё было заволочено туманом детства, а теперь и вовсе перемешалось, перепуталось. Остались лишь страх и горе, и всполохи жаркого пламени, и высоченная кукуруза, и чернота, и дядя, который в полном – жутком – молчании уводит её маму.
В последующие годы Любочка всматривалась не только в женщин, силясь узнать маму, но и в мужчин, не отыскивая среди них своего отца, а выглядывая «того плохого», который куда-то увёз её маму, и всё это время не отпускает её к ней. Любочка росла и готовилась ка-ак следует надавать… а то и порезать на тоненькие ленточки негодного супостата-разлучника. Маленькая девочка жаждала мести, суровой мести!
С тех пор Любочка не видела мамы. Любочка страшилась того момента, когда она совсем позабудет её, потому что нечёткий образ мамы с каждым прожитым месяцем для Любочки становился всё более жиденьким, неразличимым.
На имя Теличкиных регулярно, раз в три месяца, вот уже как два года стали поступать денежные переводы от Ушаковых. Бабушка с дедушкой вначале брезговали принимать их, но со временем примирились. Недавно мама прислала коротенькое письмо, из которого стало известно, что у неё всё неплохо, скучает по дочке, но вернуться пока не может, потому что родила Любочке братика; месяц как они вернулись из Лондона, где у мужа имеются дела, живут в недавно отстроенном собственном доме; её и сыночка строго опекают, уберегая от побега, если же она всё-таки предпримет этот безрассудный шаг, попробовав зажить самостоятельно с двумя детьми на руках, то муж непременно за ней приедет, и это может закончиться страшно, и не только для Любочки, не только… за минувшие два года муж сильно переменился. Но ни о чём тревожном ни слова не было сказано Любочке бабушкой с дедушкой.
В письме не говорилось о том, что муж, так и не найдя покоя, вытянул из Нади адрес «того самого места», перевернувшего их жизнь. Он долго отыскивал тех мужиков. И нашёл. И увидел. Увидел, какие они ничтожные. После этого он не хотел не то, что обсуждать возвращение Любочки, но даже слышать о её существовании. А тех мужиков никто больше не видел. Наде было сказано о постигшей их участи. После этого она стала бояться за свою и Любочкину жизни. Но несмотря на всё это где-то глубоко в душе Надя всё же надеялась, что когда-нибудь прошлое забудется и Любочка, пускай уже взрослой девочкой, но узнает свою ничтожную мать.
Шёл 2005 год.
В назначенный час пятеро детей, в возрасте от четырнадцати до пяти лет, каждый, теша свои сокровенные мысли, молчаливой тесной группкой выдвинулось к намеченному месту.
Мужчины, мужика, Кости, Константина, Боброва, Бобра или обезьянки макаки – для кого как – не было.
Начинался одиннадцатый час вечера. Катя в одиночестве сидела позади своего огорода, в пятидесяти шагах от кукурузного поля, – смотрела на угасающее небо, слушала звуки близкой ночи и размышляла о своём сегодняшнем поведении, о том, что могли подумать о ней мальчики и хорошо ли то, что Костя Бобров пропал из её жизни так же внезапно, как вторгся в неё сутки тому назад. Она не заходила домой. Она не могла сейчас позволить себе встречи с горластой пьяной кучкой людей: с вернувшейся из села матерью, притащившей своего сожителя дядю Серёжу, и поддатой бабушкой. Их приставания ей были омерзительны, но неизбежны, потому что придётся кушать и укладывать спать. Катя сроду ни к кому не просилась на ночлег. Да и к кому проситься кроме Бориски? Но сейчас она не хотела бы видеть и его, не хотела бы оставаться с ним наедине, потому что он… он уже взрослый, – он может распознать то, что её мучило весь день. К тому же, что скажут люди после такой ночёвки девочки в доме мальчика, что взбредёт им в голову? Как объяснить это маме и бабушке? Если бы те лежали вповалку, дрыхли бы в пьяном угаре, а в это время к Кате приставал с гадкими разговорами противный дядя Серёжа, и от этого она ушла бы ночевать к Бориске, тогда ладно, тогда можно, а без этого… Не настолько всё критично дома. Всего лишь надо будет немножечко потерпеть их трёп, кушая, потихоньку пробраться на кровать и постараться забыться сном.
Да, никуда не денешься, нужно идти в дом: просидишь допоздна – нарвёшься на скандал, к тому же – холодает, а она – в лёгком платьице.
В плотно сомкнутых кукурузных рядах послышался звук, похожий на тоненький свист.
Катя огляделась.
Никого.
В том, что это был непременно свист, она была не уверенна. Тем более что в такой поздний час свистеть из кукурузы было некому, а значит, что ей почудилось, показалось от задумчивости.
– Фью-и! – повторился звук.
«Свистят!» – утвердилась в первом предположении девочка. – «Кто-то свистит. И, кажется, правда, из ку… ку-ку-рузы!» – Брови у неё взметнулись, а кожа пошла пупырышками – девочку пробрал озноб. – «Это – он! Это – он!» – панически заколотилось у Кати в голове.
«Чего я радуюсь, глупая?» – подумала девочка, устыдившись своего невольного порыва.
Кате одновременно было и радостно, и страшно. Страх приходил от того, что в эту секунду крепкий и неказистый маленький мужчина находился у самого края поля, в кукурузе. Он смотрит на неё. Он старается привлечь её внимание. Он её приманивает! А возле кукурузы – темно. А в ней…
«О, боже! В ней – совсем темно!»
Страшно.
Ноги трясутся.
Руки трясутся.
Язык не слушается.
Во рту прямо-таки онемело всё.
Свист повторился.
Катя поднялась…
…ступила раз, другой.
Девочка сделала десяток шагов и остановилась, и услышала знакомый голос:
– Поди сюда, девочка. Это я, Костя.
«Он не помнит, как меня зовут? – удивилась и расстроилась Катя. – Дурак!»
Она сделала ещё десяток шагов и встала перед грядой кукурузы на почтительном, как ей показалось, расстоянии.
– Это Вы… Бобров? – неуверенно спросила Катя.
– Да-да, я. Слушай. Я тут немного отходил – погулял, осмотрелся в округе, хотел проверить, как дела и всё такое. А теперь вернулся. Ясно?
– Да, – пискнула девочка, поднимая руки к груди и крутя-ломая пальцы. – Да, – повторила она чуть громче.
– Вы про меня никому не говорили? – строго спросил мужчина.
Кате показалось, что она начала различать его силуэт: он сидит на корточках, поднеся ко рту руки, сложенные рупором.
– Н-нет, – ответила девочка, – никому. Насколько я знаю. Никто никому ничего не говорил.
– Это хорошо. – Голос мужчины приободрился. – Это вы молодцы. Хвалю. Верные данному обещанию ребята. Молодцы!
– С-спасибо, – с запинкой процедила Катя.
– Я пойду назад, в шалаш, – прошептал мужчина. – Вы сегодня ко мне не приходите. Завтра приходите. Хорошо?
– Да.
– Ты поняла, что сегодня не надо приходить? Только завтра. Утречком. Часиков в девять-десять. Если сможете, конечно. А не сможете, тогда – как сможете.
– Хорошо. Завтра, в девять часов, не раньше.
– Вот и умничка. Принесите чего-нибудь пожрать, да побольше. Ну и попить, конечно. А ещё мне до зарезу надо курева. Уж постарайтесь, очень прошу. Всё одно чего, лишь бы покурить было. Умоляю!
– Ладно.
– А теперь ступай. До завтра!
– До завтра.
– И ни гугу! – раздалось в спину Кате.
Она повернулась и всмотрелась в кукурузу, сказала:
– Конечно, я помню.
Она ничего не увидела, – прежний раз ей, верно, померещилось, что она видит, как он сидит на корточках, держа руки возле рта, сложенные рупором. «Показалось…»
– Иди, иди! Чего встала? Не привлекай внимания.
Катя не пошла, Катя побежала, неловко и неказисто вскидывая ноги, придерживая руками платье, путаясь в траве облепленной холодной вечерней росой.
Катя не поняла, можно ли ей сию же минуту рассказать мальчикам о возвращении мужчины.
«У? Можно ли?»
С другой стороны, если он сказал, чтобы они приходили к нему завтра, значит завтра, поутру, ей всё равно надо будет вводить ребят в курс дела. Правильно? Вроде бы так. И кто-то из них может оказаться занятым, кто-то закопошится или засуетится, спеша собрать угощения-подношения, кто-то растеряется, а то и перепугается.
«Как я. Как я», – повторила Катя и опять смутилась, подумав о том, что ей надо снова встречаться с мальчиками, – а они сейчас дома, и не одни, с ними их родители, и не известно, в насколько потребном виде те находятся, и неизведанно, в каком они настроении.
«Остаётся надеяться, что мальчики сидят где-нибудь вместе, – подумала Катя. – Глупая, уже почти одиннадцать. Они наверняка сидят по домам».
Катя прошла через свой огород и выглянула на деревенскую улицу.
Тихо.
Она посмотрела на самосвал у дома Потаповых.
И услышала:
– Би-бииии!
Катя обрадовалась:
«Митька! Митька снова залез в кабину и рулит, крутит баранку. Вот удача! Он всё-всё скажет остальным. Он шустро обежит их и всё скажет».
Лёгкой газелькой подбежала Катя к самосвалу и постучала в дверцу водителя, при этом она широко улыбалась и лучезарно блестела глазами. Она приветливо замахала рукой.
Митя деловито опустил боковое стекло, деловито спросил:
– Чего тебе? Хочешь залезть?
– Не… – Катя цвела. – Мужик нашёлся!
– Что? – Митины глаза сделались обалделыми.
– Мужик, мужик нашёлся! Я сидела за огородом, а он в… из кукурузы засвистел и сказал, что он вернулся, и ждёт нас всех завтра к девяти-десяти часам утра с едой и водой, – выпалила Катя.
– Ух-ты, здорово! – Митя ожесточенно завертел рулевым колесом. – Би-би! – Он изобразил, как жмёт на кругляш в середине руля, и повернулся к Кате, показывая весёлую мордочку, трясущуюся на ухабах, которые уносились под огромные колёса машины.
Катя уже не улыбалась.
Она на него обиделась.
«Какой он глупый. Ничего-то он не понял. Объясняй ему. Нет, чтобы догадаться с полуслова».
– Митька, прекрати. Я к тебе не за этим пришла. Мне уже поздно бегать по ребятам. Там родители у них и всё такое. Сбегай. Пошепчи на ушко, пускай знают и готовятся к девяти часам. Пускай соберут поесть. И он очень просил принести любого курева. Утащат там пускай. Ага?
Митя вцепился в чёрный обруч руля и замер на сиденье водителя.
Митя сорвался с места: он в один миг водворив стекло на прежнее место, соскочил на землю, шибко бухнул дверью, запер её и, сказав: «Ага. Побежал!» – умчался.
«Вот и ладно, вот и славно», – подумала Катя.
Она смело пошла в избу и стоически приняла пытку мамой, бабушкой и дядей Серёжей из села Житнино.
Где-то за печкой стрекотал сверчок.
Продолжить чтение Часть 1 Глава третья
QIWI Кошелек +79067553080
Visa Classic 4817 7601 8954 7353
Яндекс.Деньги 410016874453259