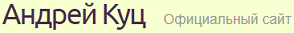ХРОНИКИ ЧАСТНОГО СЫСКА
Андрей Куц
Присказка
(продолжение)
— Русланушка, внучек, сядь ко мне… — проговорил дед.
Руслан подвинул к середине кровати расшатанный табурет, стоявший у изножья, сел, вытянулся, как проглотивший жердь, сложил руки на правом бедре:
— Здравствуй… дед. Хвораешь?
— Хвораю, внучек. Совсем хвораю…
— Никак помирать вздумал?
— Всё так… последние силы уходят, покидают бренное тельце.
Помолчали. Старик рассматривал внука. Руслан изучал обстановку, прикидывал количество и качество лекарств — старался не смотреть на деда.
— А отец с тобой не при-ехал? — поинтересовался старик, и голос у него дрогнул, в глазах промелькнул испуг.
— Нет. Он не смог.
— Понятно… А я так хотел увидеть его. Боялся встречи, но хотел увидеть, чтобы попросить прощения. Простит или нет — это его дело. Но для себя я должен был попробовать сказать его — прощение-то…
Руслан молчал.
— Тут за мной монашка ходит, Евдокия — хорошая, добрая старушка. Спасибо ей. А то бы совсем один помирал. Никого у меня не осталось. И соседи не те люди. Один я.
— У тебя всё есть? Может, что надо купить? Я съезжу. Где у вас аптека? Или, может, что в магазине надо?
— Нет, внучек, ничего не надо. Мне теперь ничто не поможет. Да и не хочу я. Умираю я.
— Отчего же?
— Стар я уже. Да и много пил всякой дряни. Специально пил дрянь, чтобы уж скорее туда… Печень посадил, почки отказывают — в теле всякая дрянь бродит, травит его. Тебя вот с трудом вижу — слепну.
— Может, тебе в больницу лечь… раз отравился?
— Был я там. Говорят, что поздно, можно только муки продлить, искусственно тянуть меня, но для этого нужны деньги… и другие клиники, не как у нас.
— Ну… о деньгах не думай. Дадим, сколько понадобится.
— Не надо. Для чего я стану мучиться, подцепленным да подключенным ко всяким железкам? Достаточно я пожил … ничто мне не мило — рад я, что всё кончается. Время пришло — я и рад.
— Эк тебя достало, — не удержался и процедил сквозь зубы Руслан.
— Я слаб, я слаб духом… я такой слабый… Насколько же я слаб! — прошептал иссохший жёлто-зелёный старик с покоцаной бородой, и мутная слеза показалась у края правого глаза, изрезанного красными прожилками. — Я не выдюжил тоски, её тоски, и бежал как последний трус! — Он стукнул ладонью по одеялу. — Я снова не смог! В который уже раз я ничего не смог поделать, преодолеть себя, понимаешь? Понимаешь меня? — Руслан затряс головой, а дед потянулся к нему костлявой рукой, пытаясь достать до его щеки, чтобы погладить, приласкать или хотя бы прикоснуться к его юности, свежести, а то и почувствовать тепло родной кровушки. — Внучек мой, не повторяй ошибок и прости за всё своего дедушку.
— Может, всё-таки можно что-то сделать? Если никуда не хочешь ехать, тогда, может, и здесь чем помогут? С кем нужно — я договорюсь, — уверил Руслан.
— Не думай об этом. Это не важно. Я не за этим хотел видеть тебя с Леопольдом… То, что его нет, может, и к лучшему. Только вот… не смогу я попросить у него прощения. Но ты ему передай, что мне очень жаль, что я был плохим отцом и плохим мужем. Ты передай ему, хорошо?
— Передам.
— Что приехал только ты, это лучше… Я хочу кое-что сказать… я тебе кое-что расскажу. Только ты не думай, что я сошёл с ума, и не перебивай меня, ты слушай деда.
— Ладно.
— Мне надо кому-нибудь рассказать. Я говорил монашке, только она чужой человек, пусть и под богом и с богом ходит, но чужой, понимаешь? Она теперь старается повернуть меня от моих мыслей и обратить к богу. Она считает, и всё очень сердится, что всё, что происходит со мной, это от моего безверия, от моего инакомыслия, нечистоты душевной, помыслов скверных — они сгубили меня; что мне надлежало сразу же узреть божественную силу, и жить с нею, верить в Него — тогда не пришлось бы страдать и мучиться в поисках чего-то, что и не ведомо, чего, может быть, и нет… Но я-то знаю, что оно есть! Теперь знаю. Она считает, что во мне сидит дьявол. И я думаю, что теперь она ходит за мной не столько от сердоболия, сколько желая хотя бы на смертном одре привести меня к богу, — она видит в том свою миссию… Она всё читает молитвы, даже приводила священника. Совсем меня утомила. Но я терплю, потому что никому я, кроме неё, не нужен. Потерпим. Пускай себе тешится. Может, даже подыграю ей — прикинусь уверовавшим. Хотя я, конечно, какой-то частью принимаю бога. Да и как же иначе, если лежишь у ступеней лестницы, которая ведёт к его Трону? Как иначе? Если он есть, я скоро увижу его. А если нет… Даже не знаю, хочу ли этого? Если нет его, то, возможно, я попаду туда… — При последнем слове старик глянул в какую-то пустоту, и стала заметна щемящая тоска, сковавшая его сердце — нечто подобное сожалению о безвозвратно ушедшей первой любви.
Руслан сморщил лоб:
— Куда?.. Куда это ты, дед, собрался?
Дед посмотрел на внука сурово.
— В страну, о которой мало кто знает. Но я нашёл её… всё-таки я её нашёл. Пусть поздно, и не прошёл далеко по её равнине, но я её нашёл! — Он часто задышал, вздымая чахлую грудь.
— Да-да, успокойся. Я верю. Есть какая-то равнина в какой-то стране. Конечно, есть. Почему бы ей ни быть?
— Не смейся! — крикнул старик и закашлялся.
— Я не смеюсь.
— И не поддакивай, не кивай, болваном, своей тупой башкой!
«Вот он какой, дед мой! — подумал Руслан. — Наверное, это пробивается наружу его истинная личина — не выдерживая фальши, рисования, рвётся она, мечется?»
— Ты это… дед, давай успокойся, а то, не погляжу, что ты в почтенном возрасте и беспомощен, тресну тебя в лоб.
Дед присмирел, и чего-то соображал, прикидывал.
— Чужой я для тебя, — наконец сказал Степан Игнатьевич. — И зол ты на меня из-за отца своего — это он тебя натаскал, науськал против меня. Но ничего не поделать: кровь в тебе всё одно течёт родная, единая с моей. Я никого не найду ближе тебя и Леопольда… Извини меня, Руслан. Такой уж я. Вздорный я, вспыльчивый и вообще — дурной. Я во всю жизнь ничего не мог с этим поделать, а теперь не стану и стараться. Потому что не поможет, не исправит. За одночасье-то того, что было всегда, не исправит… Прости старика, — он просительно посмотрел на внука
— Ладно, ничего, забыли, проехали, всё нормально.
Дверь в комнату скрипнула, приотворяясь. В проём просунулась монашка, с ног до головы убранная во всё чёрное, — только чистое кругленькое лицо висело в воздухе белым шариком.
Руслан поднялся с табурета.
— Здравствуйте! — сказал он. — Я — внук Степана Игнатьевича, Руслан Леопольдович.
— Евдокия, ступай пока, — сказал дед, — дай мне поговорить с мальчиком.
— Говорите, говорите, это очень хорошо. Храни вас Господь! — Монашествующая бабушка засуетилась, затараторила, затворяя дверь: — Это надо же, внук приехал! С божьей помощью-то ещё не то вершится, с божьей помощью…
Руслан постоял в неловком замешательстве и, не смея противиться воле страдальца, вернулся на табурет.
— Это — Евдокия, монашка, которая приглядывает за мной, — сказал дед. — Хорошая старушка, только вся чёрная, а говорит о светлом боге. Смотришь на неё и, если не видеть лица, чудится рядом сам Сатана. Особенно, когда у меня мысли всё больше о нём, нечистом, прости меня, Господи, если ты есть! — прошептал Степан Игнатьевич и посмотрел в облупленный, не раз залитый дождями и оттепелями потолок. — Всю жизнь я мучился, страдал, места не находил. Не знаю, но, может быть, помог бы он мне, верь я в него. Да не приучен я, с детства не приучен — не то воспитание… Как ты, должно быть, знаешь, скверный у меня характер. Очень скверный. А всё отчего? Не потому, что характер таков, а всё мысли у меня такие, чувства, понимаешь? Черны они, это они рвут и мытарят душу — и я хандрю, злюсь и стенаю вместе с ними. Вот оно как. Понимаешь?
— Понимаю.
— И вправду… вижу по глазам, что понимаешь. Это хорошо, что понимаешь. Это меня радует. Это мне нравится. Но одновременно с тем и огорчает. Ты не должен повторять моей жизни. Никак не должен. Каким бы я ни был, а бессмысленно злым и мстящим никогда не слыл. Если кто-то так думал — ошибался он. Ничто во мне не было случайным. Всё имело причины. И я бы их поборол, да только никак не находился верный способ, чтобы уж раз и навсегда избавиться от всего, что мучит и терзает. Поэтому всякий раз всё возвращалось в обратку. Я принимался переживать и постигать всё заново. Скуден я умишком, да видно, что и памятью скуден. Никак я не мог сообразить ничего толкового. А уж чтобы хотя бы что-то удержать в себе надолго, чтобы снова не полонила никакая там хандра, — куда там! Никак не получалось.
— Что же это за хандра такая? — спросил Руслан, догадываясь об ответе.
— Хандра-то? Обычная хандра. Человеческая — вот какая!
— Ты думаешь, она у всех?
— А то как же! Обязательно. Только по разному проистекает. А так или иначе, у всякого — это обязательно. Никуда без неё. Это уж так. Никуда. Понимаешь? Понимаешь! Страдаешь? Вижу — донимает.
Руслан лениво повёл плечами, мотнул головой.
— Стыдно? Оно, конечно. В этом стыдно признаться. Иной раз самому себе всего не откроешь. Только начнёшь думать, как тут же обрываешь, на что-нибудь срываясь, лишь бы не думать дальше. Лишь бы не додумать! Вот оно как. Да. Так оно всё и бывает. И в старости и в младости — всё одинаково. Только по разному… а корень — всё один. Да-а, человеческое житиё-бытиё — сложная штука.
Поддержать автора:
QIWI Кошелек +79067553080
Visa Classic 4817 7601 8954 7353
Яндекс.Деньги 410016874453259
— Противоречивая.
— Да-да, верно! Противоречивая. Вот то-то и оно. С одной стороны, человек — звучит гордо, а с другой — животинка, как ни крути её, как ни верти. И цели, цели нету — пустота! Зачем всё? Всё — обман, фальшь, бессмыслица. Приходишь в мир из ниоткуда и становишься всем — личностью. Познаёшь, открываешь его — мир, то есть, — и что? А ничего — дорога к смерти. Направление только одно. И всё, что накопишь, узнаешь, сделаешь, тоже рано или поздно умрёт. А уж про человека и говорить нечего: коротка его дорожка, ой, как коротка!.. Уж очень это жестокая издёвка со стороны какого там ни на есть бога, очень жестокая: дать животному разум! Зачем он нам? Были бы счастливы, если бы ничего не понимали, не осознавали. А так… Эх, жизнь! Работай день-деньской, болей, размножайся, жри… — дед зажевал бородой, — гадь так или иначе… душись духами да одеколонами, рядись в костюмы, такие же как вона у тебя — обманывай себя, беги от природы… покупай, торгуй, восторгайся, люби, желай, стремись, терпи унижение, обман, насилие, гнёт… а зачем? Да и не срамно ли? А? Срамно же! Ой, как срамно! До жути стыдно и неловко быть тем, чем ты есть. Чем, не смотря ни на что, ты остаёшься. Мешок с костями, жилами, венами, внутренностями. Свинья — свиньёй: мясо, жир да кишки. И, несмотря на всё это, жить-то хочется! Ой, как хочется! До боли, до страсти хочется! И нравится… Но как же страшно жить ради тлена, земли сырой, гроба тёмного и холодного… Если бы не гордыня, не общество, если бы не приравнивание себя к бестелесному божеству на небе!.. были бы мы такими, как есть: животные — животными. Тогда бы всё было не только хорошо, но это было бы правильно. А так!
Руслан слушал старика, и его воротило от безысходности, потому что всё это в той или иной степени присутствовало и в его сознании, но то, что в старости люди талдычат всё о том же, чем славен период, когда оставляет юность и надвигается зрелость, вызывало в нём новые терзания. Ранее он надеялся на то, что его угнетённое состояние пройдёт и уже никогда не вернётся в своей нынешней форме. А тут показалось перед ним безрадостное грядущее: ничто не вечно под луной, только — мысли человеческие. Неужели и его отец думает так же? Только он умело их подавляет, обуздывает, и скрывает, не пророняя перед окружающими, так, что ли? И окружающие тоже — так же? Подобное открытие показалось Руслану ужасным.
«Надо было заделаться гуманитарием, например, филологом, — посетовал Руслан, — там, верно, подобное разжёвывают хорошо… — и тоскуют всю жизнь! — добавил молодой человек и подытожил, — но мудро, степенно тоскуют». — «А лучше, лучше — философом. Почитал бы Ницше, Канта… кажется, так».
— Но, если ты уже живёшь, — продолжал старик, — никуда не деться — жить будешь. Надо! Потому что тебе страшно искать искусственной смерти. Ты попал в клетку, из которой не выбраться раньше отведённого срока, который может наступить в любой момент. Мучаешься, а живёшь. Живёшь и выискиваешь в себе и в мире возможность примирения, чтобы прожить не тяготясь, при этом хлебнув всего сполна, до конца. Вот и я мучался и искал. Искал и не находил. И нет здесь никакой находки. Ничего не найдёшь. Можно лишь смириться, принять всё таким, как оно есть. И — точка. Не мучься, сынок, не ищи, принимай всё таким, каково оно есть на самом деле. Примирись — и всё наладится. — Дед помолчал. Руслан смотрел на него пристально. — Лишь пять лет назад, — продолжил старик, удовлетворённый впечатлением, которое он произвёл на слушателя, его пониманием и разделением чувств и мыслей, — кроме смиренности перед бренностью бытия, я открыл кое-что ещё. Совершенно случайно, уже не желая ничего похожего. — Дед не без умысла снова замолчал.
И Руслан не выдержал: он как загипнотизированный следил за губами иссохшего старика, проникнувшись нахлынувшими ощущениями и смелостью, которая требовалась, чтобы высказать сокровенное, то, что принято скрывать, нести уединённо, замкнув в себе, — Руслан доверился мудрости деда — всё же, несмотря ни на что, не напрасно же тот прожил долгие и одновременно с тем скоротечные лета, — Руслан не выдержал, он спросил:
— Что же это было, дед? Что?
— Это — не было, это — есть. Оно было всегда, и оно будет впредь. Оно вечно, в отличие от нас. Это — высшее примирение, которое даруется тебе в стране вечной осени. Но… это не совсем так… так просто. Вначале… вначале ты будешь должен пройти весь путь, а потом, постигнув суть, навсегда принять её, и только тогда, как я думаю, ты сможешь остаться там, любя всё, и потому наслаждаясь шелестом опавшей листвы.
— Ерунда какая… И как же, позволь спросить, туда попасть? Или, может, это метафора? Ты, дед, заговорил иносказательно?
— Вовсе не бывало. С чего ты взял? Ты меня обижаешь. В таком деле я врать не могу. Я не требую, чтобы ты поверил, и всю жизнь искал эту страну. Я только хочу, чтобы это открытие не умерло вместе со мной. Хочу сохранить знание среди людей. Но может так статься, что оно поможет тебе, может, чем и как пригодится.
— Ну-ну…
— Ты не нукай, а слушай дальше.
— Валяй! — Руслан хотел было откинуться на спинку стула, но, почувствовав за спиной пустоту, вспомнил, что сидит на табурете. Но он нашёлся: он завёл руки за спину и упёр их в доски табурета. Таким образом всё же немного завалившись назад, он хотя бы на какое-то время сумел изобразить расслабленность, снисходительное позирование — это была спонтанно возникшая реакция на слова деда.
Дед, с недовольством глядя на внука, пожевал губами, но продолжил:
— Был мне пятьдесят восьмой годок, близился пятьдесят девятый, я ещё работал…
— Так ты, дед, ещё совсем молодой?
— Да. Мне шестьдесят четыре года. Я мог бы выглядеть куда лучше. Да и скрывает меня и старит борода. Но мне нравится за ней прятаться. К тому же она выделяет меня среди остальных, показывает, что я не такой, я другой, потому что кое-что знаю. Так сказать, себе на уме. Люди не любят таких. Но, таких как я, скорее надо не не любить, а жалеть… Большинство из тех, которые мнят себя знающими, знают печаль, а не радость, лож, а не правду. Они тешатся заблуждением — и бредут не той дорогой, а потом не могут выбраться из найденного болота, и гибнут, долго и мучительно гибнут в вонючей трясине… только один мох произрастёт на том месте.
— Ты — поэт, дед.
— Не поэт, а печальный странник.
— Если тебе так больше нравится.
— Ты не путай меня, не сбивай. Чего зубы заговариваешь? Я того гляди догорю и угасну, не успев сказать, что хочу, а ты!
— Извини. Говори. Я слушаю. — Руслан выпрямился на табурете, сотворил бесстрастное лицо — изготовился внимательно, без издёвок и насмешек, слушать продолжение сказок старичка.
— Захандрил я шибче прежнего. Такого со мной никогда не бывало. Один-одинёшенек — никого рядом. Жизнь катится к бесславному концу — через год я буду пенсионером по всем положенным законным правам, тогда уже всякому будет можно без запинки и заминки назвать меня «дед, старик». Только и останется, что дожидаться конца. Ничего кроме смертушки… и никакого утешения или забвения. Ни-че-го… До того я захандрил, что расхворался, и мне выписали бюллетень. Я затворился в этой каморке и предался тоске и горю. Так мне было плохо, так плохо. Всё нутро разрывало, весь мозг выворачивало наизнанку, а сердце сжималось в комочек, и застывало — мертвело будто. Я лежал вот на этой кровати и стонал. А вернее сказать — стенал. Выл и скрежетал зубами. И рыдал, обливаясь горючими слезами. И вот однажды, утомившись от мучений, провалился я в безликое забытье — мозг, повинуясь природе, выключил во мне всё, что терзало и изводило его, бедненького. Хотя он вовсе не бедненький — это он, проклятый, всему голова, всему вина и причина. И причудилось мне, причудилось как наяву, местечко — тихая обитель. Ничего вокруг: ни человека, ни построек, ни телеграфных столбов. Поля и разбросанные тут и там клочки леса, щедро раскрашенного пышным осенним цветом. Всё облито солнцем. Небо чистое, лазурное. Дует лёгонький ветер — приятно холодит кожу, перебирает опавший жухлый лист. Сухо, чисто, прекрасно. Так мне легко задышалось, так легко! — это проник в меня покой, умиротворение и наслаждение от созерцания прекрасной, торжественной и величавой смерти природы. Она, конечно, не умирала, она засыпала, подготавливалась к тому, чтобы пробудиться по весне и заиграть нежным изумрудным блеском, возликовать — жить, покуда не покинут силы, и бестолково, беспомощно множиться, оставлять после себя потомство… — Руслан цокнул языком, скривился. — Да, куда это я? Сейчас не о том. Тогда мне ни о чём таком не думалось: я наслаждался свежестью и позолотой с багрянцем. Я шёл. Я смотрел. Я гулял. И шло время — долго я там оставался. А со временем вместе менялись и мои чувства. И незаметно для себя самого я предался тоскливым мечтаниям о любви, о юности, о том времени, когда я был без ума от осени и любил женщину, и был любим женщиной… Человек и без того не воспринимает себя старым: он старится телом, но его душа по-прежнему остаётся молодой. Тут я и вовсе забылся — и привиделись мне тогда вдруг на краю лесочка прекрасные девы. Они тихонечко прогуливались и призывно на меня поглядывали — вроде как заигрывали. Со мной, представляешь? Я поддался этой захватывающей, молодящей сердце игре. Я был польщён, я был горд, я был счастлив. Они вошли в лесок. Я направился к ним. Но… не нашёл я их — пропали они. И листья на деревьях начали быстро-быстро сохнуть и опадать — и вот деревья протянулись к небу голыми прутьями, суками, стволами, всё равно что иссохшими ручками в немой тоскливой мольбе куда-то ввысь, туда, где должен обитать Непреклонный Верховный Небожитель. Поднялся ветер. На небе собрались тучи — солнце пропало, начал накрапывать дождь. Всё вокруг побурело, почернело, напиталось мокротой, земля превратилась в слякоть, в грязь. Я промок и замёрз. По земле, гонимый ветром, стелился ржавый, коричневый лист — смоченный дождём, он едва уловимо шуршал. Горе и отчаяние заскребли когтистыми лапками по моему сердцу, и полезли тогда в мою голову думы — одна сквернее другой… Я не видел ни одного домика — вообще никакой приметы, по которой было бы можно найти человеческое жильё, чтобы попросить приюта, и хотя бы обогреться. Никого нигде не было. Даже никаких птиц и зверюшек не летало и не прыгало. Всё было мертво, тихо, скаредно. Я вспомнил всё! Все былые годы, печали, радости. А особенно отчётливо предстали под мои внутренние очи мои злостные проделки с людьми. И так мне стало стыдно, горько за себя, что хоть тут же, на том самом месте, где я стоял, сквозь землю провались! Но это было бы слишком простым решением. Я не провалился. Я не погиб под слоями земли. Я вспоминал. Я вспоминал снова и снова, и опять, и опять, и маялся. Я вспомнил молодость, те далёкие года. Всё виделось мне очень подробно и чётко. Сердце стучало отбойным молотком, билось и разрывалось. Я с такой силой сжимал зубы, что они крошились. Тогда я разбежался и со всей мочи ударился выставленной вперёд головой о ствол дерева. Померк передо мной свет — и я нашёл себя уже на всё той же прежней своей кровати, вот на этой, в этой вот своей комнатке. Я долго лежал с широко раскрытыми глазами, глядя в потолок — и ничего не видел, ничего, кроме картин увиденного, как я думал, во сне, и тех пылких, страстных, проникновенных, насыщенных чувств, что там во мне пробудились. Про себя и для себя я назвал то место страной Вечного Шелеста Осени. Для меня она так и осталась страной, в которой осень шелестит опавшей листвой… После случившегося во мне была какая-то непонятная пустота — я вроде как успокоился, и оттого выздоровел. Я вышел на работу. Я больше недели не брал в рот ни капли спиртного. Я был как в дурмане, в каком-то оцепенении. А может быть, в ошеломлении? И вот настал день, когда прямо на рабочем месте я забылся — и увидел её! И была там всё та же прекрасная, чудесная осень. И не было никаких девок возле леса. Были чувства, были мечты, воспоминания. И я гулял. И наслаждался. Долго, как мне показалось, я там шатался-болтался. Мне было ничего не нужно, ничего не требо, ни в чём-то я не нуждался. Я просто был! Я дождался поры, когда наступает глубокая осень, когда мир теряет цвет. И вот тогда меняя снова накрыла чёрная тоска. И я бежал! Бежал по равнинам, плутал среди деревьев в лесу и упал-таки, и покатился на дно оврага. От этого кувыркания у меня закружилась голова, и я потерял сознание… И я тут же нашёл себя среди привычных для меня людей, привычного и такого противоречивого мира. На этот раз — в больнице. Оказалось, что на работе я повалился без чувств и, закатив глаза, едва дышал. Думали, что — всё, что я отхожу в иной мир. Но откачали, хотя в сознание не привели. Запрятали меня в больницу, где я очухался спокойненьким и умиротворённым, и как ни в чём не бывало поднялся я с больничных полатей и стал собираться по своим делишкам, до своей хаты. И нет у меня никаких противопоказаний, чтобы противиться мне, удерживать меня — отпустили меня. Да и кто станет удерживать старика в больнице против его воли? Отпустили. После этого я не единожды посещал то место, ту страну.
«Сумасшедший старик», — подумал Руслан. — «С другой стороны, — добавил молодой человек, — он пересказывает всего лишь свой сон. Яркий, натуралистичный, но сон, рождённый страдающим от болезни мозгом».
Поддержать автора:
QIWI Кошелек +79067553080
Visa Classic 4817 7601 8954 7353
Яндекс.Деньги 410016874453259
Старик же продолжал выговариваться:
— Однажды я встретил там печального путника в потрёпанных одеждах. Впервые я повстречал в её пределах живую тварь. И никакую-нибудь, а человека. Мужчину! Тех краль, что веселились на опушке леса, а потом куда-то подевались, я не признаю за людей: то было видение, наваждение, предложенный мне соблазн. А этот путник был таким же мытарём, как я, из реального, земного мира. Он был человеком во плоти, и он успел много потаскаться, поскитаться по моей стране Вечного Шелеста Осени. Но это была и его страна. Она общая, она для всех и каждого. И для тебя тоже. И вот я, признавая его авторитет, слушал его. Ведь он давно, не в пример мне, гостил на её бескрайних просторах. Я слушал и набирался мудрости. От него я узнал, что, помимо моего знания осени, есть иное знание — это, такое привычное и естественное, но почему-то мною забытое, чередование времён года. Но, чтобы познать их, надо терпеть и ждать, ждать и терпеть — точно так же, как в земной жизни. Только иной раз время в той стране тянется невыносимо долго, а в другой раз бежит сломя голову… Это было испытание. Настоящее испытание воли. И я… не преодолел я его. Надо было ждать, проживая бесконечный день, не ведая ночи, следя за тем, как угасает осень и наступает зима, в которой до того холодно и одиноко, что тебя выворачивает наизнанку. Тянется она долго-долго… сурова-сурова та зима, и кажется, что ей не будет конца. Но потом приходит весна, чудесная зелёная весна — и всё в тебе начинает ликовать. Но, следя за нарождением жизни в природе, ты задумываешься о неминуемой смерти — от этого тебе опять становится тягостно. Потом приходит лето, в котором всё неизменно, ничто не меняется, от чего ты наполняешься покоем и мудростью. От чего ты уже не страшишься близкой осени, ты даже допускаешь мысль о том, что, может, её не будет? И лето действительно тянется очень долго. Но всё же… всё же приходит осень. Эта новая осень по-настоящему прекрасна и торжественна, она удивительна! Теперь она не пугает тебя угасанием жизни. И, если ты сумеешь пронести все эти накопленные, выстраданные знания через предстоящие зимние стужи, пережить весну и снова успокоиться летом, успокоиться во второй раз, ты уже навсегда останешься в ранней поре осени и будешь в ней счастливым, то есть спокойным. Ты станешь её покорителем и превратишься в Повелителя. Она примет тебя, чтобы больше уже никуда не отпускать. Даже если ты вспомнишь мир людей, то не сможешь в него вернуться — ты навсегда уйдёшь из прежней жизни. В большинстве случаев попавшие туда люди не желают возвращения, предпочитая стабильность и вечное умиротворение.
— Красиво, но нереалистично, — сказал Руслан, потягиваясь — разминая затёкшие члены.
— Да, красиво… — задумчиво сказал дед. — И, может быть, не реально. Так или иначе, а для меня это не стало реальностью. Я до сих пор туда попадаю, проваливаюсь, но я ни разу не задержался там дольше ноября — не выдюживаю. Обязательно сдрейфлю и сбегу. Вот так-то. Слаб я, слаб я духом, внук. Как был во всю свою непутёвую жизнь слабаком да недотёпой, так им и помираю.
— Печально.
— Да. Печально. Стал я вот спиваться. Пить немерено. Никогда я так не пил. Думал, что это помутит рассудок настолько, что избавит меня от её посещений, от повторяющихся возвращений туда. Но не помогало. Можно сказать, что я искал её всю жизнь, а найдя, не знал, как от неё избавиться… Увидав её однажды, побыв там, уже никогда не сможешь, как я понимаю, избавиться от познанных ощущений и мыслей. Она манит, не отпускает — вновь и вновь втягивает, всасывает, подчинив разум. И ты снова оказываешься в её бескрайних пределах и слышишь шелест осени. Вот так-то… Это — навсегда. Главное, это знать, что есть такое место, и тогда прийти в него будет делом времени. Если же ты не преодолеешь предложенный ею путь испытаний, жить на свете тебе станет совсем невыносимо… Я решил не просто спиваться, а пить самую гадкую, дешёвую водку, а то и какую иную отраву, суррогат всякий, чтобы, измучив себя уже не столько нервически, сколько физически, приблизить смерть тела, а с ним — разума. И вот, вытравив в своих нутрах всё, что можно, я лежу перед тобой немощным, ожидая своей кончины…
— Устал я, — сказал дед. — Горло пересохло — першит.
— Налить воды? — Руслан поднялся, огляделся.
— Не надо. Мне нельзя пить что ни попадя. В свою жизнь я намучился — не хочу новых страданий, хватит — дело сделано, недолго осталось… Прости внук и ступай пока… позови Евдокию, монашку. Она всё даст, она уже знает. Приходи позже. Позже приходи.
— Жизнь — прекрасна и удивительна, в абстрагированном варианте. Вот так вот, дед.
— Ну да, ну да… Дежурные слова твои — правильные слова. Жизнь прекрасна, если не замечать ужасного. А это удаётся не всем. Иди себе, иди, я всё, что хотел, сказал. Теперь мне спокойнее, теперь мне легче. Потом приходи. Позже.
«Чёртов старик! — негодовал Руслан. — Страдать он не хочет. Так, глядишь, он полежит, полежит и встанет! А я — сиди тут, жди якобы его смерти. Выманил меня! Будет теперь удерживать, родниться, сближаться. Вот напасть. Вот я влип. Как быть? Долгой задержки здесь я не выдержу, также как не выдержу его постоянного нытья, жалоб, отчаянья. Его пустоты, наконец!»
Выйдя от деда, Руслан направился в центр города, чтобы отыскать хотя бы какую-нибудь гостиницу. — «Но лучше, получше».
Через два дня, ночью, дед всё же умер.
И было Руслану невыносимо стыдно за свои мысли, которые после первого визита, в течение двух дней неопределённости, ещё не раз его посещали. Единственное, чем утешался Руслан, это тем, что он постарался сделать для старика хотя бы что-то: он встретился с врачом, который ранее наблюдал его в больнице, справился у него о серьёзности положения деда, узнал, можно ли хоть чем-то тому помочь или хотя бы как-то облегчить его страдания, купил лекарств, продуктов, дважды навестил, сделав последние часы для деда не такими страшными.
Руслан взял на себя все расходы и хлопоты, связанные с похоронами.
От близости смерти и от постоянных забот, на протяжении двух дней крутившихся вокруг неё же, у молодого человека сделалось совсем скверно на душе. Люди, пришедшие почтить память усопшего, только усугубили его состояние: все они были из простых и, можно сказать, что — примитивные. Руслана это угнетало — он привык к другому обществу, он привык к московской роскоши, широте, размаху, а тут… Он терпел и исполнял, что должен, — всё же это был его родной дед. Не важно, как он жил и с чем умер. Не важно. Достойным образом побеспокоиться об усопшем было некому, кроме Руслана. Может быть, дед был бы не прочь скромных, скупых похорон, устроенных на общие сборы или на средства города. Они не отважились, а может, не успели об этом поговорить. Но в любом случае Руслан навряд ли поступил бы иначе. Он пошёл бы наперекор воле деда, полагая, что тот отказался от его забот лишь из-за стыда, скромности или высокомерия.
Деда закопали на лишённом деревьев кладбище, на краю степной равнины. В ста метрах через дорогу шумел листвою жиденький осенний лес.
Через две недели после похорон деда, Руслан отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось двадцать восемь лет. Покоряясь сложившейся традиции, он отметил его шумно, и в кругу семьи, и с бывшими и новыми друзьями, и со знакомыми и коллегами по работе и бизнесу. Но ему было тягостно — его депрессия прогрессировала, грозя вылиться в нервный срыв.
Через месяц после дня рождения Руслан пропал.
Его искали близкие, его искали друзья, и все надеялись, что это какое-то недоразумение, что он объявится сам.
Так минуло целых четыре дня.
На пятые сутки мать и отец обратились в полицию.
Через неделю с момента пропажи Руслан Леопольдович Покрута-Половцев, 28 лет, уроженец Москвы, был объявлен в федеральный розыск.
Продолжить чтение Сказка
QIWI Кошелек +79067553080
Visa Classic 4817 7601 8954 7353
Яндекс.Деньги 410016874453259