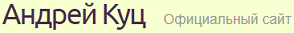ДУРДИЛЬ
Андрей Куц
8 (92)
ПАША
Паша невесомо плыл по воздуху.
Он был невидимкой для самого себя, но это его не пугало. Подобное уже происходило с ним, и всякий раз это состояние оставляло незабываемые, ни с чем несравнимые чувства.
Его тело по-прежнему лежало в убежище, на сухой почве с упругой короткой травкой, а дух плыл, подчиняясь малейшей прихоти правообладателя — Паше, который то и дело замирал от восторга и от невозможности постичь происходящее, — при этом на лице мальчика, лежащего возле костра, блуждала довольная улыбка.
Паша не спал. Он грезил, находясь в полусознательном состоянии. Он всё понимал и принимал как должное, не подвергая анализу, осмыслению… Как раз на осмысление ему и не хватало полноты и глубины сознания. Но это его не трогало — он был покоен, он был доволен и восторжен. Всё шло, как надо: он многое мог и многое умел… Он был невесом, он был невидим. Но он был! Он был в траве, и он был в стволе, он был в листе, и был в капле росы, он был в жуке, и был в стрекозе. Паша был там, где только мог пожелать. Паша был всемогущ! Паша улыбался.
Внезапно он учуял рядом с собой какой-то разум.
Паша ощупал ближайшие молекулы, и выделил в одной чуждый ей атом. Паша знал наверняка, что этого атома в ней быть не должно. Он знал это так же, как знал и умел многое, чего он не объяснил бы не только кому-либо, но и самому себе. Но он знал!
Он двинулся к разуму в атоме, а атом — отделился от молекулы и двинулся прочь.
Паша не растерялся — он начал преследование.
«Отстань!» — сказал стремящийся скрыться атом.
«Марат?!» — удивился Паша.
— Чего тебе?
Марат сидел на том же месте, где незадолго до рассвета с ним расстался Паша, и, задрав голову, подставив лицо под лиловый сумрак неба, смотрел на него.
— Я сейчас приду, — заверил его Паша и стал быстро возвращаться к своему телу.
— Вот ещё… — начал было Марат, но Паша его уже не слышал.
Паша открыл глаза.
Костёр ровно, как ни в чём не бывало, горел, освещая убежище, из-за пасмурного дня особенно нынче тёмное.
— Марат…
Паша не разобрал настроения Марата, а потому, поддавшись собственной потребности, обрадовался, полностью допустив и приветствуя мысль о свершившемся примирении.
Паша побежал на встречу с другом.
В это время Валя подходил к автодороге километром западнее Устюгов.
С момента его ухода из-под опеки Паши прошло более часа.
9 (93)
МАРАТ И ПАША
— Марат, Марат, ты здесь! Я так и знал, что ты где-нибудь здесь!
Сквозь плотные тучи проглянуло солнце, окатив ярким жарким лучом Марата.
Марат поёжился — не от солнца, а от беспечной — как всегда — радости маленького, как ни крути, Паши.
— Уйди от меня, — сдавленным голосом сказал Марат.
Солнце, показавшееся было в небесной вышине, пропало — снова не стало видно ни одной прогалины, ни трошки свободного от туч пространства.
Паша остолбенел.
Он остановился, побледнел, ноги у него задрожали, губы болезненно скривились.
— Ты… ты всё ещё дуешься?
— На что?.. Я ничего такого не знаю. Ты это о чём?
Паша окончательно смутился, не понимая поведения Марата.
Произошедшее на поле с подсолнухами представлялось Паше нелепым недоразумением, которое, конечно же, не может рассорить верных друзей. Оно не способно разрушить сложившиеся, не раз прошедшие всевозможные проверки отношения. Никак не может. Это — не что иное, как самый настоящий Бред!
— Бред это! Бред, бред! — выпалил Паша. — Я не верю, что ты можешь идти на поводу сущего пустяка! Не надо так. Давай дружить, как прежде. Ведь у нас есть это место. У нас есть убежище. У нас есть тайна. У нас есть сила!
— Какая сила?.. Ты её понимаешь?!
— Нет, но…
— Ты её контролируешь?
— Я с ней живу!
— Вот как?
— Да! Здесь — мой дом!
— А мой?
— И твой тоже — здесь!
— А силы на всех хватит?
— Конечно! Её полно — она всюду!
— Мы слишком разные, — спокойно сказал Марат. — Нам не суждено быть с ней одновременно. Это погубит её. И погубит нас. Я не хочу ни того, ни другого… Поэтому тебе лучше уйти… Иди Павел. Или ты хочешь поспорить со мной? Посостязаться? Начать бой за право обладания Горой — всем, что она даёт? Ты хочешь узнать, к кому она больше тянется, кто ей ближе, кого она одарит и поддержит?
— Хочу! — с вызовом выкрикнул Паша, не узнавая себя, потому что при этом он сделался уж слишком взрослым, зрелым — личностью. — Да, хочу! Я бросаю тебе вызов!
— Ха!.. Ты — шутишь… — констатировал Марат и перевёл взгляд на небо, заполненное быстро плывущими облаками. — Хватит уже… иди себе спокойно.
— Я никуда не уйду. Убежище — моё! Оно принадлежит мне по праву. Я первый предложил искать тайные места, строить шалаши… можно сказать, что это я привёл вас сюда. Я никуда отсюда не уйду!
— Вот и сиди в своём шалаше — в этом убежище. Мне оно больше не нужно. Мне хорошо здесь… Тут ничуть не хуже, а даже наоборот — лучше. Так что сидите там вместе с Валькой — мне это почти что безразлично… Но лучше, если вас не будет нигде поблизости.
— Как… как так? Ты что?.. А Валя куда-то ушёл… я не знаю, где он.
— Ушёл?! — Марат заинтересовался — приободрился и даже преобразился, подобравшись и подавшись вперёд. — Давно?
— Я не знаю… я спал.
— Понятно… это хорошо… Знаешь что, Пашка?
— Что? — буркнул Паша.
— Было бы очень хорошо, если бы мы собрались все вместе и обо всём переговорили. Тебе так не кажется?
— Наверное… Только, о чём?
— Обо всём! — внушительно сказал Марат. — Обо всём. А для этого сперва надо найти Валю. Правильно?
— Наверное…
— Правильно! Совсем правильно! И было бы очень здорово, если бы ты занялся этим прямо сейчас.
— Сейчас?
— Ага. Он — где-нибудь поблизости или подался в деревню… Точно! Он — в дерене. Ступай туда — не ошибёшься.
— Ладно. — Паша был не уверен, он колебался: быстрый переход Марата от отрицания воссоединения к предложению о каких-то неуместных переговорах, смутил Пашу. Он не мог разобраться, в чём собственно дело, где, как говорится, зарыта собака?
— Почему ты раздумываешь? — спросил Марат. — Ты уже не хочешь примирения?
— Конечно, хочу.
— Тогда, что же? Почему ты не идёшь?
— Пошли… пойдём вместе!
— Э-эээ… мне это не кажется правильным.
— Почему?!
— Мне кажется, что Валя скорее прислушается к тебе, допустит к себе тебя, а не меня. Ко мне он будет строже — я отпугну его. А переговариваться, примиряться надо здесь, а не где-то там, на стороне. Тебе так не кажется?
— Наверное, ты прав. Я пошёл?..
— Иди.
— Пошёл?..
— Да что же это ты всё тянешь! — не выдержал и возмутился Марат. — Давай же, ступай искать Валю!
— Ага… — Паша засунул руки в карманы штанов, опустил голову и скучно, задумчиво побрёл прочь, наконец оставив Марата в таком долгожданном для него одиночестве.
10 (94)
Самый верный и надёжный способ убедиться в достоверности свершившегося факта — собственные ноги, глаза и уши.
Марат не пренебрёг этим проверенным, испытанным способом, полагаясь на доступные, открытые ему особые возможности. Он решил своими глазами убедиться в уходе Паши и в отсутствии Вали.
Он поднялся, с удовольствием расправил плечи, выгнул спину и, шевельнув сперва левой, а затем правой ногой, сдвинулся с места.
С предосторожностями подойдя к убежищу, Марат заглянул в проём — Паша был там. Он сидел возле костра, тихий, как мышка, чующая кота.
Марат затаился.
11 (95)
Паше очень не хотелось оставлять пределы Чёртовых Куличек: ему было спокойно в убежище, и убежищу — Паша чувствовал это — было спокойно от его присутствия. Паше думалось, что оно ощутит себя покинутым, а огонь в нём, который, казалось, был сердцем, живым, трепетным моторчиком всех Куличек, начнёт остывать — и затихнет, угаснув, от невыразимой тоски при очередном расставании.
Паша потрогал язычки пламени — они были тёплые, они ласкались, нежно облизывая кожу руки. Это было до крайности приятно, и заставляло сердце сжиматься от переполняющей его любви к нуждающемуся в нём, тянущемуся к нему столь же горячему и нервическому сердечку — такому же как у Паши, к сердечку всего этого места, бьющемуся в коконе, коим стало созданное ребятами убежище.
— Нет, нет, не уговаривай меня остаться, — прошептал Паша огню. — Я пойду, найду его, и сделаю всё, что нужно, чтобы Валя возвратился. Я приведу его, и мы опять будем все вместе: ты, я, Валя и Марат. Не тоскуй, не удерживай меня. Ты исходишь из глубины земли, и потому ты здесь, и одновременно с этим ты — всюду. Я буду держать с тобою связь. Я знаю, что так будет. Ты никогда нас не оставлял. С тех пор, как ты появился, мы — вместе всегда. Только наши путешествия в мир людей заставляли нас отвлекаться… — не надо было этого делать. Я больше так не сделаю. Я обещаю. Я буду верен тебе. Я ни на что тебя не променяю. Моих мыслей никто и ничто не отвлечёт, не помутит, не похитит… Я хожу по земле, — а ты и есть самая суть земли. Я понимаю, что всё зависит от меня. Ты же — всегда рядом, ты — вечен. Ты горишь всегда, но там, в глубине. Мы побудили тебя выйти наружу и гореть видимо для человека и всякого зверя. Ты будешь здесь, пока мы с тобой. Я обещаю, я не предам!
Паша приласкал огонь костра — поиграл с ним ладошками. Поднялся и вышел.
12 (96)
Паша вышел из убежища, не заметив Марата, притаившегося неподалёку от прохода.
Марат с облегчением выдохнул: «Наконец-то!»
Он немного выждал и проник в убежище.
Он с безразличием обозрел когда-то родное и близкое ему пространство.
Он приблизился к упрямо горящему костру — и тот накренился, подался от Марата прочь!
Марат хмыкнул.
«И впрямь живой», — подметил он.
Он слышал, как Паша переговаривался с огнём, и нисколько не удивился такому поведению приятеля, потому что все они стали чрезвычайно чуткими ко всему, чем был наполнен Мир.
«Но разве я — не часть тебя? — спросил Марат у огня. — Что это с тобой? В чём дело? Хотя — как знаешь… Мне — всё равно. Меня устраивает моё новое обиталище. Живи, как знаешь! Питайся, как знаешь! Люби, кого желаешь!»
Костёр брызнул искрами.
«Да пошёл ты! Что ты есть? Огонь — и всё! Захочу — погашу тебя!»
Костёр выправился — огонь снова горел вертикально, как будто бросая Марату вызов.
Марат не стал испытывать судьбу, дразня неведомые силы, он вышел из убежища.
Поддержать автора:
QIWI Кошелек +79067553080
Visa Classic 4817 7601 8954 7353
Яндекс.Деньги 410016874453259
Обойдя окрестности, внимательно их изучая, Марат возликовал: Паши и Вали нигде не было! Они отделились от буханки отрезанным ломтём и были поглощены жадной пастью, без остановки питающей ненасытную утробу праздно шатающегося Верзилы-Великана.
«Вот и славно! Вот и ладно!»
— А… аааааааааааа!.. — заорал Марат на всю округу.
С далёких деревьев вспорхнули и засуетились в воздухе птицы.
Марат расставил руки и закинул голову:
— Я. Здесь. Хо-Зя-Иииии-н!
Он вскинул руки вверх, потянулся к небу, зашевелил пальцами, как бы щупая высоту, и, опустив руки себе на макушку, замер, наслаждаясь долгожданным моментом освобождения от постороннего присутствия.
Марат торжествовал! — и бесконечное стадо туч ускорило свой бег, на что лес отозвался усилившимся шумом листвы, раскачиваясь от новых порывов ветра. Опять подали голос — завыли в лесных чащах — волки.
— За мной, мои верные слуги! — позвал их Марат и отправился к центру Чёртовых Куличек — на Горелую Гору.
13 (97)
Всё было правдой!
Автодорога была разворочена по всей ширине.
Складывалось такое впечатление, что из глубин наружу что-то вырвалось.
На большом куске уцелевшего асфальта, вздёрнутого вверх вывернутой кучей земли, как на льдине, наскочившей на отмель, висел «жигулёнок».
Валя стоял на круче в кустах и смотрел на людей в милицейской форме и на людей в штатском: кто-то стоял, кто-то сновал взад-вперёд со всяко-разными инструментами, иные же тянули верёвки, рулетки, что-то отмечали флажками, номерками, брали пробы, фотографировали, записывали, ковырялись, копались — и всё это с деловитым, сосредоточенным видом.
Одна из четырёх женщин в вызывающей мини-юбке постоянно наклонялась, отыскивая на месте происшествия что-то одной ей ведомое; и никак, казалось, она не могла этого найти, потому она шла в другое место и снова наклонялась; а за ней следили краем глаза мужчины — заглядывались на Примадонну, судя по выправке и повадкам неместную. Её длинные каштановые волосы постоянно спадали ей на лицо, и она изящным движением головы откидывала их назад, отчего ранее отведённый мужской взгляд, уловив это движение, невольно возвращался к соблазнительным длинным ногам и выпяченному заду этой заезжей цыпочки, неуместной при данных обстоятельствах, отвлекающей мужчин от выполнения прямых обязанностей.
Вале был хорошо виден пузатенький, кругленький Залежный, Кирилл Мефодич, скучающий возле машин, скопившихся со стороны Устюгов: он часто поднимал правую руку к лицу и осторожно, элегантно почёсывал его в разных местах — то висок, то нос, то подбородок. По-видимому, руки у Кирилла Мефодича были грязными. Наверное, он измарал их, проявляя инициативу перед высоким начальством, одновременно с тем стараясь от него отдалиться, прикрывшись видимой занятостью, или же не побрезговал грязью потому, что пытался добиться большей сопричастности с происходящим, для чего и прибегнул к физическому контакту с местом происшествия. А чесался он, скорее всего, от неловкости перед великим скоплением разнообразного народа и будучи озадаченным случившимся.
Со стороны Карпино, в отдалении, проглядывало заграждение, выставленное поперёк дороги, и рядом — наряд милиции: с той стороны весь транспорт направлялся в объезд по дороге выше Карпино, делающей весомый крюк через убогие деревушки. Валя не видел, но подозревал, что то же самое должно быть и со стороны города — райцентра. И он не ошибался: у самого конца городской черты дорога на Устюги была перекрыта точно таким же образом, что и у Карпино; пропускался только транспорт местных жителей и автобус, который останавливался на краю леса, наверху, над Устюгами, там, где вчера сидели на пнях-стульях наши три мальчика и грызли кукурузные початки. Автобус не шёл до самой деревни по причине отсутствия места для его разворота. Даже наверху он не разворачивался, а съезжал вниз, в направлении речки Дульки, по просёлочной дороге объезжая неширокий, но протяжённый участок леса, занимающий практически всё пространство между городской окраиной и Устюгами. Автобус грузно кувыркался по ухабам просёлка полтора километра, с натугой выбирался на асфальт и весело устремлялся к первой городской остановке.
Валя, видя многообразие людской деятельности вокруг повреждённого дорожного полотна, оставался невозмутимым: он не проявлял никаких эмоций — стоял, как вырезанный из бревна статуй на какой-нибудь детской площадке.
Правда ли то, что во сне, прикинувшись червём, он поднялся из земных глубин в том самом месте, где теперь кипит людская деятельность? Значит ли это, что разрушенная дорога — это его рук дело? Может быть такое, что произошедшее — всего лишь его желание, которое реализовалось помимо его воли, только по прихоти… во сне?!
Валя решил, что, в конце концов, не важно, как и почему это случилось? Но, способен ли он на подобное в рассудочном состоянии, а не во сне, его волновало. Сможет ли он такое повторить?
А последствия?
А люди?
Что люди?
Кто колготится, тот пускай колготится дальше — у них такая работа, а тот, кто мог погибнуть в автомобиле… его кровь — не на руках Вали! Тот сам оказался в данном месте в конкретную минуту — это его проблема, на нём одном ответственность. Не повезло! Тем более что подобное Валя не замышлял и уж подавно не хотел, особенно в отношении посторонних людей. Но, если он всё-таки причастен, это… не он это! Не он!.. А вообще-то — плевать! И ещё раз плевать! Какая разница? Вчера он был зол, очень зол не только на знакомых людей, но и на людей вообще, в целом, во всём их многоликом скоплении. Что же изменилось? Да ничего!
Иначе, зачем ему сегодня идти в деревню?
Он хотел проверить дорогу — он проверил, он узнал то, что хотел. Выходит, что теперь ему пора возвращаться в лес?
Но ведь деревня так близко. Не лучше ли наведаться в неё и глянуть, всё ли там ладно, всё ли гладко? И убедиться, что его никто не порочит вредным словом, что чужие уста надёжны и неподкупны.
Чьи уста? Молодёньких девочек?
Абсурд! Нелепица!
Значит, надо сотворить так, чтобы они стали надёжнее любого сейфа!
А значит, нужна непоколебимая жёсткость и даже жестокость в исполнении жизненно важной для Вали нужды. Если же всё уже вышло из-под контроля, тогда — месть… кара… суровая, но справедливая кара, наказание за насмешки и укоры, за унижение и оскорбление. Он ни в чём не виноват, а потому месть будет праведной! А думать о соразмерности одного и другого не только не всегда возможно, но и не всегда найдётся способ, подходящий по качеству понесённому урону!
Валя побрёл по кромке леса, вдоль автодороги, — через триста метров начиналось поле, в это лето засеянное душистым клевером, а за ним, через полкилометра или немногим больше, прятались в низине Устюги.
Было 13 часов 27 минут.
14 (98)
Распластав крыло над бездной, мчался лихой ездок. Его конём был железный мустанг по кличке Зелёный «Иж». Иногда хозяин называл своего верного скакуна любовно: «Мой Огнедышащий Вжик».
На ездоке Лёше трепыхал, пульсируя от азарта бешеной, рискованной гонки, чёрный пуховик. Ветер, как настырный увесистый кулак, толкался, давил в чахлую молодецкую грудь, и был наполнен невидимым для человеческого глаза мусором — мелким, но жгуче стегающим по незакрытым участкам кожи.
Мотоцикл ревел и оставлял за собой шлейф гари.
Лёша высоко подлетал на рытвинах просёлочной дороги, разделившей надвое поле с кукурузой: одна, большая, половина поля — ближе к реке, другая — к автодороге. Он летел стрелой, выпущенной сноровистым индейцем-ирокезом из племени каюга, о котором Лёша недавно вычитал у Киплинга. Дух этого воина, давно растворившегося в складках времени, витал над ним, нацеливая на дела и свершениям его дерзкий, пытливый молодой ум и пламенное, порывистое сердце.
Скорость, риск, сноровка — всё слито в одном движении!
Вперёд! И только вперёд!
Душа ездока таилась где-то позади диафрагмы, где-то у позвоночного столба — съёжилась она там и замерла.
Лёша гнался за облаками. Лёша играл с ними в догонялки. Лёша высоко подлетал. Лёша приближался к ним. Он почти что до них доставал!
Ветер клонил к земле травы, а Лёша клонился к рулю и, будто бы взмахнув крылом, со всего хода взбирался на ближайший подъём. Он с восторгом зависал в мёртвой точке, — а в воздухе бессмысленно и беспомощно болтались, крутясь, колёса. Мотор ревел, мотор взвывал, мотор харкал очередной порцией едкого дыма; едкого, но такого духовито-приятного — жеребец был перекормлен машинным маслом. Но он был конём старой, добротной выучки — он не пасовал перед трудностями: ни при каких обстоятельствах он не должен подводить хозяина! Так учит, так диктует негласный кодекс любой порядочной, уважающей себя лошади — боевой единицы. А он был этой самой боевой единицей — под его колёсами-копытами проносилась не песчаная дорога, а расстилалось ратное поле!
Ураган-конь-Вжик нёсся вперёд, не разбирая особенностей дороги.
Он нёсся! Изрыгал, харкал, перхал, звенел, дребезжал, рычал, чадил, пылил, но нёсся!..
Шестнадцатилетний Алёша Кравцов, уроженец деревни Устюги, непозволительно быстро ехал по просёлку на мотоцикле «Иж» зелёного цвета. Он спешил наверстать удовольствие, упущённое от двухдневного простоя, когда проводился капитальный ремонт мотоцикла.
Лёшин железный друг захворал уже давно, но был всё вроде как на ходу. Только в последнее время дела его ухудшались уже не по дням, а по часам. Поэтому Лёша и отважился перебрать все его части и узлы. И провести лечебную процедуру нужно было как можно скорее, потому что был близок учебный год. К сожалению для Лёши, с наступлением последнего в его жизни учебного года в средней школе, он, как и во все предыдущие годы, переберётся в город, в райцентр, туда же, куда и Паша Дубилин. И, как знать, дозволят ли ему родители навещать по выходным его жадного до бензинового чада железного друга? Как знать…
Лёша летел. Он старался вобрать в себя как можно полнее то, что раньше казалось само собой разумеющимся, то, что было разбросано по округе в жутком изобилии: только надо было подойти — и брать, брать сколько чего пожелаешь, а чего не унесёшь зараз, за ним можно было придти позже, да что там позже, — когда захочешь! Теперь же ему не виделось всё таким доступным. И он жадно тянулся и хватал! А помяв, покомкав, пожевав, тут же бросал, устремляясь дальше, к другому, новому, пускай и знакомому. Казалось, Лёша никогда не насытится.
Лёша летел самозабвенно, самоотречённо.
Только вперёд! Вперёд, по уже не раз изъезженной, досконально изученной дороге.
Вперёд и только вперёд! Ещё и ещё — где же конец, когда придёт пресыщение, когда же ему надоест?!
Никогда!
Такое надоесть не может!
Вперёд!
15 (99)
Валя спускался к Устюгам по свободному от машин асфальту проезжей дороги.
Поддержать автора:
QIWI Кошелек +79067553080
Visa Classic 4817 7601 8954 7353
Яндекс.Деньги 410016874453259
Идти под горку было очень даже приятно. И оттого всё, что бы ни ожидало его впереди, там, в деревне, виделось ему легко преодолимым — незначительной забавой. Он сумеет справиться с любой неожиданностью! Ему ничто не помешает, если он того захочет. Никто и ничто…
До первых домов оставалось не больше двух сотен шагов, когда рёв мотоцикла извлёк Валю из расслабленного состояния и сосредоточил на себе.
Это было невыносимо. Это было нестерпимо. Это было возмутительно!
Лёшка и его мотоцикл!
Лёшка и ветер! Лёшка и дорога среди полей! Лёшка и очумительная, лихая скорость! И рёв! И чад-дым!
И где? В царстве, в безраздельном царстве Вали.
Лёшка нарушил его покой. Лёшка отвлёк его внимание. Лёшка загрязняет его природу. Лёшка наполняет его мир невыносимым шумом. Лёшка безнаказанно, не спросясь, хозяйничает во владениях Вали!
В сознании мальчика даже не наметился недавний вопрос о возможности управления земной твердью — действие пришло само.
Валя сперва покраснел, а потом посерел, вены у него вздулись, глаза заплыли, волосы на голове приподнялись, щёки раздулись — и рот распахнулся, выпустив тягучее «фууууууу», как у штангиста, поднявшего запредельный для себя вес.
Лёша тут же исчез из виду.
Был Лёша и нет Лёши.
Только можно было заметить, как он ухнул куда-то вниз.
16 (100)
Фёкла Туркина собирала яблочки. Очень хорошие яблочки — румяные, сочные да сладкие. Её большая корзина была почти полной, вторая — ожидала своей очереди.
Пятый год дом Ануфриевых, насовсем перебравшихся в город, принадлежал охочим до летнего отдыха бездетным москвичам, которых теперь уже не было — месячишко отдохнули и восвояси отбыли они до столичной суеты-кутерьмы. Дом этот был третьим от реки по чётной стороне деревни, и он, по прихоти новых владельцем, сильно преобразился — обновился, приобретя презентабельный вид. Огорода они не держали, поэтому почвы не возделывали, из-за чего позади дома всё пространство заполонил бурьян, среди которого росли дико, по божьей воле, яблоньки — под солнышком да дождичком, но от этого они не хирели, а плодоносили исправно и обильно. Москвичи съехали месяц назад, и местные жители через дыру в заднем заборе, по проторённой за многие годы тропке, безвозбранно наведывались на их территорию — полакомиться и запастись нехитрыми плодами.
Промышляя небольшим воровством, Фёкла поглядывала на пасущуюся за оградой бурёнку, над которой вчера бесстыже глумился Макар Рябушкин.
Коровка жевала травку и, казалось, ни о чём не горевала, ни о чём не тужила. А вот Фёкла не могла избавиться от жалости к ней. У неё перед глазами всё так и стояло, как этот непутёвый Макарка сосёт её тяжёлое вымя. Фёкле никак не удавалось отогнать видение — не приходило к ней успокоение. И тому виной было не только само действие, но и непонимание причины, побудившей взрослого мужика покуситься на поганое, паскудное бесчинство.
«Срам-то какой! Как такое могло прийти на ум? — не переставая дивилась Фёкла. — Бедная ты моя, бедная!»
В это время заревел мотоцикл.
Шум нарастал и превратился в рёв.
Фёкла выпрямилась. Кинула в корзину пару подобранных с земли яблок и посмотрела на лихую головушку, управляющую бесноватой техникой.
— Куда же тебя несут черти, оглашенный? Шею сломишь, чёрт бестолковый! — прогнусила Фёкла.
Мотоцикл как ехал со всей недозволительной скоростью, так и ухнул вниз — исчез он в один миг! Глухой удар с каким-то звоном и прерывистый рокот захлёбывающегося мотора были недолгой увертюрой к вернувшейся торжественной тишине.
У Фёклы перехватило дыхание. Её объял ужас. Она инстинктивно сложила руки на груди, с недоверием пялясь на то место, где только что был мальчик на бешено нёсшемся мотоцикле. Хвост из пыли и дыма всё ещё путался в кукурузе, обозначая маршрут незадачливого ездока.
Фёкла стояла бы так неизвестно сколько времени, если бы не мальчик, который шёл к месту пропажи мотоциклиста. В нём Фёкла сразу же опознала одного из трёх вчерашних шалопаев, ставших свидетелями грехопадения Макара, и, между прочим, уже больше недели периодически не возвращающихся в свои дома для ночлега! — это был не кто иной, как Валя.
Фёкла опомнилась, подхватила корзинки и поспешила к месту трагедии.
17 (101)
От Вали до места пропажи Лёши было шагов сто пятьдесят в сторону Дульки.
Валя взял с автодороги вправо, и скоро, волнуясь, встал он над поверженным нарушителем тишины на той территории, что была вверена Вале в безраздельное пользование неким промыслом — или роком? Со стороны Вали такое видение себя было самоуправством и чрезмерно преувеличенным самомнением, но о том пока никто не догадывался, а поэтому никто не пытался его образумить.
На дне песчаной ямы, разверзшейся во всю ширину просёлка, глубиной в три метра и в длину не менее пяти метров, лежал Лёша с размётанными, вывернутыми под неверным углом руками и ногами. Голова у Лёши склонилась к левому плечу, справа на шее что-то нехорошо, страшно выпирало. Его лицо было серым, а язык — высунут. Выпученные глаза вращались, блуждая. Лёша сотрясался мелкой дрожью.
Рассудок Вали помутился.
Убийство! Страшная, мучительная смерть! Гибель невинного, не ведающего об опасности существа! Это никак не входило в планы Вали. Он только хотел немного проучить Лёшу. Хотел поставить его на место, донести до него новость о том, что здесь, в Устюгах, теперь есть конкретный хозяин! Которого надо слушаться, которому надо подчиняться, никому недозволенно, ни чуточки, ни капельки, ему перечить. И вот… так вдруг… нечаянно… так…
«Я его даже не предупредил… Если бы он меня ослушался, тогда мой гнев был бы понятен… если бы я, ослеплённый им — нахлынувшим на меня гневным буйством, — перешёл бы разумные границы наказания… тогда… а так… Что-то мне нехорошо… Мне дурно. Меня мутит».
От нервов руки и ноги у Вали стали подёргиваться.
Он почувствовал, как его потребность где-нибудь скрыться, куда-нибудь убежать, и подальше, начинает исполняться самым примитивным образом: при каждом нервном содрогании, земля под ногами у Вали раздвигалась, как зыбучие пески, поглощая его.
Валя опустил бы взгляд, посмотрел бы, что там, у него в ногах, творится, но он не мог оторвать глаз от затихающего Лёши.
«А лучше бы всё вернуть назад… не бежать, а изменить! Но, как? Я не знаю, как это сделать… может быть, я могу и такое… но я не знаю… не знаю я как!»
«Что же я наделал… что теперь будет… Доигрался. Дошутился. Я пропал!»
— Что, что здесь такое?.. Ой, батюшки! — Это подошла Фёкла Туркина, и побледнела… и ноги у неё ослабли, и она, опершись на корзины, опустилась на объёмный зад, не сводя распахнутых ужасом маленьких глазок с мальчика, лежащего в яме.
— Что… что же это… — пролепетала Фёкла. — Боженька… пресвятые угодники…
Она с трудом оторвала глаза от мальчика в яме и посмотрела на Валю, содрогающегося, как-то вдруг осунувшегося и вроде как постаревшего.
— Че-чего с-стоишь… то? — запинаясь, обратилась она к нему. — Беги звонить! «Скорую» надо! Скорее надо! И милицию сюда…
Валя не двигался. Он не понимал лепета глупой бабы.
— Чего стоишь? Оглох? — Фёкла гневно на него зыркнула… попыталась до него дотянуться, чтобы ухватить, чтобы, потрепав за ногу, привлечь внимание — не дотянулась.
— Ой, батюшки, — изрекла Фёкла и стала тяжело, неловко подниматься. — Ох-ох… Что же это… что же… Слышишь?! Беги! Ты скорее меня будешь! А? — Она ухватила Валю за плечо.
Валя обернулся.
Землистым был цвет его обвислого, высушенного лица, а волосы — пепельно-серыми, и вроде как вставшими дыбом, глаза — красные, влажные — злые.
Оборачиваясь, Валя вбирал, втягивал голову в плечи — сутулился.
Он был страшен. И он мелко-мелко затрясся — неприятная, противная вибрация прошла по жилам Фёклы, вовлекая в этот процесс все суставы и позвонки — тело у женщины занемело. Фёкла отдёрнула руку, — если бы она этого не сделала, она непременно снова опустилась бы на землю.
— Что с тобой? Т-теб-бе п-п-ло-хо?
— Дда-аааа, — протянул Валя так, будто его голос зарождался у него в утробе.
— Боженьки святы…
Фёкла машинально перекрестилась. Она не помнила, когда подобное проделывала ранее — ей была не свойственна набожность. Но порой случается, что язык сам упоминает Отца Небесного, а правая рука тянется ко лбу, опускается к пупку, устремляется к правому плечу и заканчивает крестное знамение на левом плече, ближнем к сердцу. И снова совершает проделанный путь. И снова. Трижды. А потом пальцы ищут на груди нательный крестик, — если таковой имеется. С трепетом берут они его и подносят к губам, для поцелуя. «Сохрани и обереги, Господи!» — шепчут холодные или жаркие, сухие или влажные губы. Трясущиеся пальцы сжимаются в кулак, никак не желая расставаться с крестом. И вот уже становится легче, возвращается какая-никакая уверенность, и не только отпускает сердце и врачуется душа, а просветляется в голове — можно думать и принимать решения…
Фёкла попятилась и, позабыв о корзинах, припустила до своего двора — к телефону, за помощью.
Валя не думал, он действовал.
У него не слушались ноги, но он не отчаялся, он пошёл, как мог. Он должен был идти за Фёклой Туркиной. Нельзя было позволить Фёкле донести до общественности произошедшее.
Что-то преградило Вале дорогу.
Корзины. Яблоки.
Никакого дела не было Вале ни до корзин, ни до яблок… но корова, пасущаяся поблизости, подала заунывный голос. И Валя остановился, и вернулся за парочкой яблок, потому что он её узнал — это вчерашняя страдалица, коровка, поруганная по его прихоти и по слабости подвернувшегося мужика. Вале захотелось порадовать её, утешить, побаловать. В конце концов, Фёкла никуда не денется, а позвонить она по любому успеет — не догнать её.
Валя подошёл к корове. Погладил, похлопал по её покатому боку.
— Милая бурёнка, — сказал он. — Гуляешь, травку щиплешь? Щипи-щипи, скоро осень — и не станет свеженькой зелёной травки. Станешь ты кормиться сухим сеном. Может, повезёт — будет сенцо душистое, исправное. А пока — вот, на, пожуй. Прости меня за вчерашнее, горемычная. Нравится?
Корова шибче прежнего завиляла жгутом-хвостом и слизнула с ладони Вали мокрым, жарким и шершавым лопухом-языком сладкие спелые яблочки.
Валя потрогал её чёрный нос, провёл пальцами по щетине на морде.
— Резвись на воле, кормилица, — сказал он и вытащил железный кол, удерживающий на привязи пегую бурёнку.
Продолжить чтение Часть 3 Главы 102-108
QIWI Кошелек +79067553080
Visa Classic 4817 7601 8954 7353
Яндекс.Деньги 410016874453259